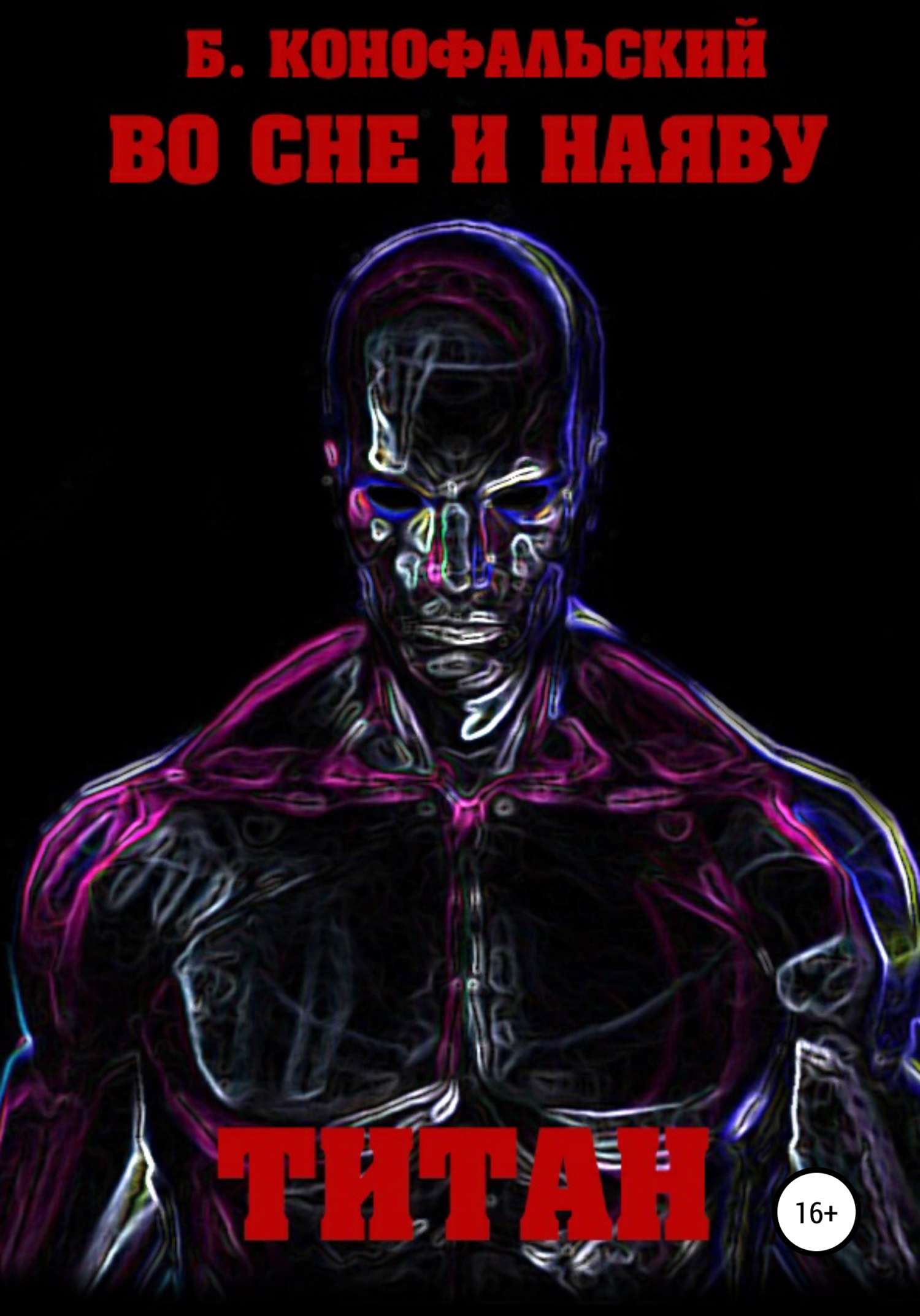спокойна. Слушала внимательно, но безучастно. А когда бургомистр закончил, сказала ему одно слово:
– Ступай.
И больше ничего, а фон Гевен и не знал, радоваться теперь, что к старухе не позвали, или печалиться, что Анхен так холодна.
Решил судьбу не злить, просить милости у благочестивой Анхен не стал, поспешил на двор к карете. И поехал домой, спать.
А вот Анхен долго еще не ложилась, теперь ее трясло: нет, не руки, как у бургомистра, тряслись, а вся она. И не от страха, а от злобы. И не было на этом свете никого, кого бы так ненавидела она, как пришлого рыцаря, что приехал сюда и рыскал тут.
Ульрика, верная подруга ее, уже в ночной рубахе, простоволосая, сидя на постели, звала ее:
– Госпожа моя, полночь уже, придешь ли спать?
– Ложись, покоя мне нет, к матушке пойду, спрошу, что делать.
– Из-за рыцаря того божьего покоя нет?
– Из-за него. Будь он проклят.
– Ждать ли мне тебя?
– Нет, спи, – сказал Анхен, вставая с лавки. – Я у матушки надолго, разговор непростой предстоит.
* * *
Она пришла нескоро, но Ульрика не спала, ждала ее. Когда Анхен вернулась, служанка вскочила с постели и стала помогать госпоже раздеваться. А потом легли они, и Ульрика, прижавшись к Анхен, спросила:
– Ну, что сказала матушка?
– Сказала, чтобы сама все заделала. Иначе не выйдет дела.
– Пойдешь к этому псу, ляжешь с ним?
– Лягу. А там и убью. А по-другому никак, будь он проклят, иначе его не взять, непрост он, изощрен. Будь он проклят.
Ульрика от жалости к госпоже своей готова была рыдать, стала гладить ее по волосам, целовать стала в лоб, в щеки ее.
А благочестивая Анхен лежала как чужая, словно не ее целовали, и вдруг зажала кулаки и заорала в потолок, да так, что отшатнулась Ульрика, и понесся крик Анхен по покоям, и пошел через толстые стены по коридорам, и все в доме от сна очнулись, лежали в страхе, слушали и думали: что это. Хоть многие из женщин, что жили тут давно, знали, кто так орать может, что аж до костей пробирает.
– Что ты, что ты, сердце мое, – снова прижалась Ульрика к Анхен, гладя ее по волосам как девочку, – что с тобой, отчего так нехорошо тебе?
– Матушка костры видела, – заговорила Анхен, – костры по городу и виселицы, а средь них люди да мужи злые дело кровавое делают, и попы, попы… Всюду попы, и рыцарь этот всех их сюда позвал.
– Господь наш, истинный отец наш и муж наш, не допустит, – шептала Ульрика, – не оставит дочерей и жен своих.
– Не оставит, – вдруг успокоилась Анхен, – завтра сама к пришлому пойду и все заделаю, а Господу истинному не до нас, сами мы должны все делать, сами.
Дальше Ульрика с ней говорить не стала, она хорошо знала, что значит этот тон госпожи.
Снова стало тихо, а Михель Кнофф, привратник и единственный мужчина в приюте, сидел в своей коморке, поставив на лавку, что служила ему столом, полупустую кружку с давно выдохшимся пивом. Рукой прикрыл огонек лампы на всякий случай – хоть и визжала благочестивая Анхен далеко, а все равно холодом обдавало, словно сквозняком, и огонь порой гас, вроде как сам по себе. Так и сидел с рукой над лампой. Прислушивался. Дышал тихо-тихо, боясь зашуметь. Он служил здесь давным-давно и знал: если благочестивая Анхен так в ночи кричит, значит, зла она до лютости.
* * *
Утром Волков встал в прекрасном расположении духа и был голоден. Ёган уже и воду подал, и одежду чистую. Кавалер мылся и поглядывал на великолепный подарок. Они вчера с Ёганом и Сычом мыли его в уксусе и воде со щелочью. Перстень сверкал под лучом солнца, что попадал на него из окна. Не поскупились подлецы на подношение.
Пришел Максимилиан, спросил, седлать ли коней.
– Седлать, едем завтракать. Хочу курицу жареную, мед, молоко и свежий хлеб, – говорил Волков, надевая чистое исподнее.
Эльза Фукс помогала ему подвязать шоссы к поясу, так он ее лапал за грудь, которой почти и не было. И улыбался притом, а девица от неожиданного внимания господина покраснела и, подавая ему туфли, тоже улыбалась.
Всем людям его передалось доброе настроение господина. Даже Ёган с Сычом не собачились по своему обыкновению.
Внизу, в большом зале, его увидал управляющий Вацлав. Кавалер думал, тот сейчас кинется про деньги говорить, а он только поклонился и улыбался ласково. Волков тоже ему поклонился и пошел на улицу, хотя не любил он нерешенные вопросы. Следовало остановиться и поговорить с управляющим, сказать, что пока они съезжать не собираются, больно хороша гостиница, но и денег платить не станут. Что три дня еще на гостеприимстве поживут. Но портить прекрасный весенний и солнечный день пререканиями с этим Вацлавом кавалеру не хотелось.
На улице, сев на коня, кавалер отправил Максимилиана на почту – конечно, знал он, что ответа на его письма еще быть не может, они только ушли, но мало ли… Может, какие другие письма ему прислали. От отца Семиона, что жил в монастыре в Ланне, а может, от барона. Сам же кавалер со всеми, включая Эльзу, поехал в трактир «У мясника Питера». Он слышал, что это хорошее место и еда там всегда свежая.
Деньги у него имелись: и от серебра, что дал ему на поездку барон, кое-что еще осталось, и те славные золотые флорины, что принес с извинениями купец, хозяин «Безногого пса». Посему решил он своих людей кормить и позволил им заказать все, что хочется, чтобы знали, как добр он с ними.
Курицу Волков брать не стал, попросил седло барашка, хоть и нескоро это блюдо готовилось. Хозяин божился, что ягненок был молод и еще поутру блеял, и не обманул, Волкову мясо нравилось. Он запивал его вином, не пивом – пиво пусть Ёган с Сычом пьют, да и монах с Эльзой тоже от пива не отказывались. Кавалер поглядывал на Эльзу, как девушка с удовольствием ела жареную свинину, пачкаясь жиром, и как смешно она брала тяжелую кружку с пивом. Думал кавалер взять ее к себе на ночь. Думал, думал и не надумал, не привлекала она его: щуплая, без груди, ляжек нет, зад худой, только мордашка милая да глаза огромные, как сливы. Не женственная. Не на чем пальцы сжать. Не то. Не Брунхильда.
Он подумал о красавице, которую оставил в Ланне, и немного погрустил, самую малость. Пусть она и несносна, и противна бывает так, что убить хочется, но ничто не сравнится с ее великолепным