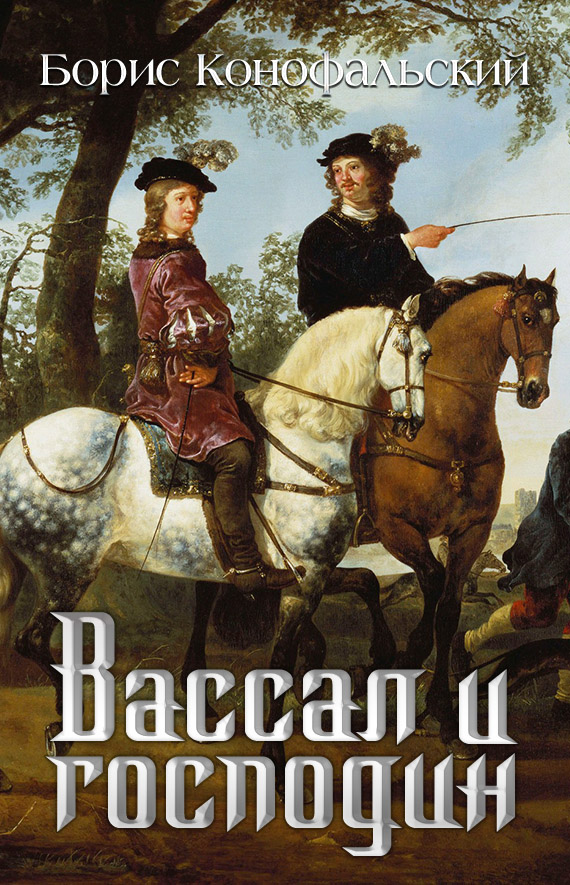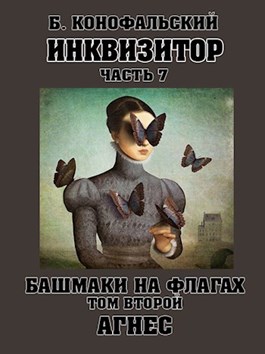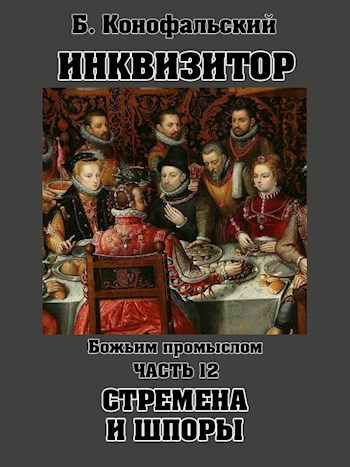class="p1">– Господин, мы тут уже многие законы нарушили, – тихо заговорил монах, – а теперь вы пытаетесь совершить и грех, да еще и на глазах многих, кои могут и показания против вас дать, случись разбирательство.
– Какое еще разбирательство? – удивился Волков.
– Не извольте сомневаться, разбирательство будет обязательно, с нас с вами еще за все это спросят, – продолжал отец Семион. – Мы взяли на себя смелость судить от лица инквизиции, права такого не имея, а зная, сколь могущественны ваши враги, глупо было бы думать, что они упустят шанс осудить вас, так давайте не дадим им лишнего повода, я причащу его, то времени много не займет.
Поп был прав, Волков опустил факел. А поп тем временем вооружился Святой Книгой и Символом веры, достал склянку с вином и хлеб для причастия. Подошел к колдуну, что был уже привязан к столбу, и заговорил с ним. Он тихо говорил, колдун нудно выл, озираясь по сторонам со страхом и злобой. Волков боялся, что это затянется надолго, поэтому повернулся к солдатам и крикнул:
– Чего рты разинули, ждете, пока еретики придут? Грузите оружие на свободные подводы, не успеем дотемна все вывезти, станем ночью возить. Ничего здесь не оставим.
Солдаты зашевелились, а кавалер сунул факел Сычу и принялся ждать, пока поп закончит таинство.
Отец Семион и рад был закончить побыстрее, да толстяк не спешил, он все говорил и говорил, признавался и признавался в страшных делах своих, вспоминая все новые и новые прегрешения. Уже вернулась партия людей, что уходили за город со вторым обозом, уже и загружены были почти все подводы, а колдун все не унимался. Говорил так, что слюна на губах пеной становилась.
– Роха, – раздраженно позвал Волков.
– Да, я тут, – отвечал тот, подходя к кавалеру.
– Не жди, вези раку в лагерь, нечего лошадям простаивать, сгрузишь раку, останешься при ней, а подводы сюда отправишь.
– Эх, – вздохнул Скарафаджо, – хотел костер поглядеть.
Он пошел к обозу, а Волков остался, сел на тюки с тряпками и одеялами, что взяли на квартирах после победы над еретиками.
Видимо, болтовня колдуна и попу надоела, он уже не знал, как и закончить таинство. Не выдержав, отец Семион улучил момент и чуть не силой воткнул гостию в незакрывающийся рот, колдун бодро прожевал святой хлеб, не прекращая говорить, а поп уже влез к нему на костер и заливал ему в рот вино из склянки, положил ему на голову руку и громко сказал:
– Отпускаю тебе грехи твои и предаю тебя в руки мирского правосудия, да смилостивится над тобой Господь. Аминь.
Священник осенил колдуна святым знамением, дал поцеловать Символ веры и, спрыгнув с костра, начал громко читать молитву. Солдаты обнажили головы и пытались вторить попу. Волков, кривясь от боли в ноге, тоже встал, снял шлем и, не дожидаясь окончания молитвы, протянул руку к Сычу за факелом, но тот факел не отдал:
– Дозвольте я, экселенц. Уж больно он вонючая жаба, этот колдун, позвольте мне его подпалить. Может, на суде перед Богом за это мне какой-нибудь грешок спишут.
Кавалер не думал возражать, и Сыч твердым шагом пошел к костру и стал поджигать пучок щепы. И тут Ханс-Йоахим Зеппельт, осквернитель, расстрига, чернокнижник и колдун заорал так, что Сыч заметно вздрогнул. Чуть факел не уронил.
– Не жги, не жги! Прочь, прочь пошел, пес! Отец мой, я не во всем покаялся, не во всем, остановите его, остановите подлеца, пусть прочь идет. Не жги! Аа-а-а, да Господи, не жгите меня! Я в монастырь пойду, грехи замаливать, только не жгите!
Отец Семион растерянно взглянул на Волкова, тот молчал, не собираясь останавливать Сыча.
А пучок сухой щепы бодро занялся огнем, стал нагревать дрова из старой мебели, потянулся белый дымок.
Монах и хотел было остановить Сыча, да было поздно, языки заплясали по сухим обломкам лавок и столов, из которых и был сложен костер.
– Святой отец, остановите огонь, водой его, водой лейте, – надрывался расстрига и колдун, – я тайну вам поведать хочу, не все я вам рассказал!
Но отец Семион так и стоял в растерянности, глядя то на разгоравшийся костер, то на кавалера, ожидая его приказа. Но Волков молчал, а ветер весело трепал языки, раздувал пламя, и оно уже, колеблясь из стороны в сторону вслед за ветром, быстро и шумно разрасталось, пожирая деревяшки все ближе к белым, пухлым, стянутым веревками ногам колдуна.
– Да что же вы, святой отец, что же вы, – ревел тот, – велите тушить огонь, я не во всем покаялся! Велите воду нести!
Но костер уже разгорелся, и ветер выдул из глубины костра огромный и живой лепесток пламени, тот вырвался на свободу и, как языком, лизнул колдуна от ног и до головы, сальные патлы чернокнижника встали дыбом и загорелись. Вспыхнули, а как пламя улетело вверх, стали гореть сами по себе. Колдун затряс головой, пытаясь стряхнуть огонь, извивался, пытаясь освободиться от веревок, и орал при этом:
– Господи, горю! Горю же! Воды, воды скорее! Я ж горю, святой отец! Отчего вы не велите тушить, велите! Да что ж вы стоите! Велите тушить! А-а-а-а-а-а!.. Ноги уже горят, ноги горят!.. Да будьте вы прокляты, святой отец, все!.. Все будьте прокляты, я же не во всем покаялся! Грех вам! Грех вам!.. А-а-а-а…
Огонь загудел, звонко щелкали деревяшки, костер уже было не потушить. Отец Семион смотрел на огонь с ужасом. И молился истово, мелко крестясь.
А кавалер был на удивление спокоен. Он ждал только одного: когда колдун наконец прекратит орать, и ему было все равно, во всех ли своих многочисленных грехах покаялся этот демон в человеческом обличии или не во всех. Волков от души желал осужденному места в аду и хотел, чтобы все побыстрее закончилось. Особенно этот нескончаемый скулеж. И колдун замолчал, пламя закрыло ему уже все ноги до жирного чрева, и он обмяк, голова его повисла, а сам он стал дымиться белым жирным дымом, сопровождаемым мерзким шипением.
Отец Семион снова громко и четко стал читать молитву, и все, даже Пруфф и Брюнхвальд, стали повторять ее. И когда дочитали, в огне что-то хлопнуло, то было чрево колдуна, оно прорвалось, и огромный кишечник с требухой вывалился в костер, к ногам. А сам колдун вспыхнул, стал гореть со щелканьем и свистом, зачадил, пошел черный жирный дым от него, густой и страшный.
– Вон какой дух-то в нем черный был, – сказал Ёган, глядя на костер широко открытыми глазами, – чистая злоба.
– Вот так, дети мои, выходят черные