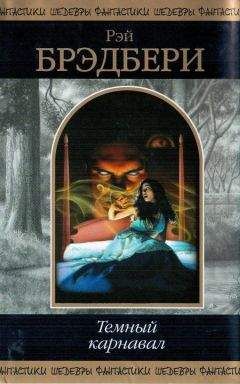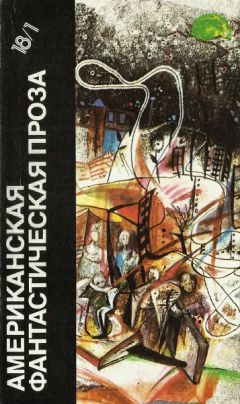Итак, это произошло две недели назад. Две недели прошло с того вечера, когда состоялся разговор о женитьбе, переезде, Элис Джейн. Две недели. Две недели назад он заставил их улыбаться.
Теперь, очнувшись от воспоминаний, он улыбнулся сидящим за столом безгласным и неподвижным фигурам. Они ответили ему странными, подобострастными улыбками.
— Я ненавижу тебя, старуха, — напрямик заявил он тете Розе, — Две недели назад я не решился бы сказать об этом. Но сегодня, э… — Он скомкал окончание фразы и повернулся к дяде.
— Дядя Димити. Позволь дать тебе один маленький совет, старик…
Греппин произнес небольшую речь, взял ложку и притворился, что ест персики, хотя тарелка была пуста. Он уже пообедал — в городе, в небольшой забегаловке. Жареная свинина с картошкой, яблочный пирог, стручковая фасоль, свекла, картофельный салат. Но он делал вид, что ест, потому что эта маленькая игра доставляла ему удовольствие. Он притворился, что жует.
— Итак, решено окончательно и бесповоротно: сегодня вы навсегда покинете этот дом. Я ждал две недели, мне нужно было все обдумать. Наверное, я позволил вам оставаться так долго еще и потому, что мне хотелось понаблюдать за вами. Когда вы уйдете, я уже не смогу быть уверен, а вдруг… — В его глазах мелькнул страх. — Вдруг вы начнете слоняться вокруг дома, шуметь по ночам… я не смогу этого вынести. Я вообще не намерен терпеть шум в моем доме, а уж когда здесь поселится Элис Джейн…
Толстый двойной ковер под ногами глотал все звуки, придавал уверенности.
— Элис хочет переехать сюда послезавтра. Мы собираемся пожениться.
Тетя Роза вдруг подмигнула Греппину — зло, недоверчиво, мол, это мы еще посмотрим.
Он с криком вскочил, потом, присмотревшись, рухнул обратно на стул, скривившись в болезненной гримасе. Потом рассмеялся, чтобы снять напряжение.
— Ах да… Это же просто муха.
Греппин проследил взглядом за насекомым, как оно проползло по желтоватой щеке тети Розы и улетело. Это из-за мухи ему почудилось, что глаз тети Розы моргнул, будто в сомнении. Надо же было такому случиться.
— Вы сомневаетесь, что я женюсь, тетя Роза? Вы считаете, что я неспособен жить в браке, любить и исполнять свой долг перед любимой? Вы считаете меня незрелым, неспособным ужиться с женщиной? Юнцом, который может только мечтать? Что ж! — Усилием воли он заставил себя успокоиться и покачал головой. — Эх, парень, — сказал он себе. — Это же была просто муха, это муха сомневалась в любви… Или нет? Или это ты сам? И потому тебе и померещилось это подмигивание, это неверие… Черт подери!
— Я пойду и проверю топку, — сказал он, обращаясь к людям за столом. — В течение часа вы покинете этот дом навсегда. Вы поняли меня? Вижу, что поняли.
Снаружи начинался дождь. Холодный, промозглый ливень принялся поливать дом. Греппин скривился от раздражения. Шум дождя — единственный шум, от которого невозможно избавиться, который ничем не одолеть. Тут не помогут ни новые двери, ни новая смазка, ни засовы. Можно, конечно, покрыть крышу полотнищами ткани, чтобы капли барабанили не так громко, но это уже чересчур. Нет. От шума дождя ничем не защитишься.
А Греппину так нужна была тишина, именно сейчас, как никогда раньше. Каждый звук — это страх. А потому каждый звук должен быть пойман, задушен и уничтожен.
Дождь барабанил по крыше. Так нетерпеливый человек барабанит по столу костяшками пальцев. Греппин снова соскользнул в воспоминания.
Он перебрал в памяти, чем все закончилось. Чем закончился тот час того дня две недели назад, когда он заставил их улыбаться.
Он взял нож и собирался разрезать птицу на большом блюде. Как всегда, когда семья собиралась за столом, все нацепили торжественные чопорные мины. Если дети смели улыбнуться, тетя Роза давила их улыбки, как давят каблуком тараканов.
Тетя Роза заявила, что Греппин держит локти под неправильным углом, когда режет птицу. Она также дала ему понять, что нож недостаточно острый. Дойдя в своих воспоминаниях до этого места, он расхохотался, выпучив от смеха глаза. В тот день, после замечания тети Розы он покорно наточил нож об оселок и снова взялся за птицу.
Он разрезал большую часть ее за несколько минут, а потом поднял взгляд и оглядел их брюзгливые, нарочито серьезные лица. Словно пудинги с агатовыми глазами. Словно его застукали с голой красоткой, а не с жареной куропаткой. И тогда он поднял нож и хрипло закричал:
— Господи, ну почему вы — вы все! — никогда не улыбаетесь?
Он взмахнул ножом несколько раз, словно волшебной палочкой.
А когда он закончил — вуаля! — они все улыбались!
Он оборвал воспоминания на середине, скомкал их, скатал в шарик и выбросил. Поднялся из-за стола и быстро прошел через холл в кухню, а оттуда — вниз по лестнице, в подвал. Там он открыл топку и не спеша, умело заставил пламя разгореться.
Поднимаясь по лестнице обратно на кухню, он огляделся по сторонам. Надо будет нанять уборщиков, чтоб вычистили опустевший дом, и отделочников, которые оборвут унылые шторы и повесят новые, сияющие. Новые ковры в восточном стиле покроют полы и даруют тишину, которой он так жаждет и без которой не сможет жить еще по меньшей мере месяц, а то и год.
Греппин в ужасе спрятал лицо в ладонях. А вдруг Элис Джейн станет шуметь в доме? Издавать какие-то шумы, какие-то звуки…
И тут он рассмеялся. Придет же такое в голову! Беспокоиться-то не о чем! Все уже решено. Да, все решено. Ему совершенно не нужно бояться, что Элис Джейн станет причиной шума. Просто, как апельсин. Он сполна насладится всей прелестью присутствия Элис Джейн в доме, и ему не придется расплачиваться за это неудобствами, которые разрушают мечты и не дают сосредоточиться.
В доме оставалась еще одна недоработка, еще одна лазейка для звуков. Раньше все двери хлопали на сквозняке, но Греппин установил на них воздушные компрессоры, какие бывают в библиотеках, и теперь двери закрывались плотно, но издавали при этом тихое шипение.
Он прошел через столовую. Фигуры за столом остались неподвижны, словно нарисованные. Их руки продолжали лежать, где лежали, и их невнимание к Греппину не было проявлением невоспитанности.
Выйдя в холл, он поднялся по лестнице: надо было переодеться перед тем, как выселять родственников. Расстегивая запонки на манжетах, Греппин дернул головой, прислушиваясь. Музыка. Сперва он не придал ей значения. Потом медленно запрокинул голову к потолку, и кровь отлила от его лица.
Где-то под самой крышей раздавалась музыка, нота за нотой, тон за тоном, и это повергло его в ужас.
Каждая нота звенела, словно потревоженная струна арфы. Тихий, скромный звук в абсолютной тишине дома стал разрастаться, пока не перерос сам себя, пока не впал в неистовство от того, какую огромную пустоту он может заполнить, какое огромное поле деятельности ему открывается.
Дверь с грохотом распахнулась от удара Греппиновой руки, и вот уже его ноги нащупывают ступеньки. Перила змеей извивались под пальцами. Руки тряслись от напряжения, дрожали от слабости, тянулись вперед, тянули к себе… Ступени стали другими: шире, выше, темнее. Сперва он еле брел, спотыкаясь, теперь бежал со всех ног, и если бы на пути его вдруг выросла стена, Греппин остановился бы лишь тогда, когда увидел бы на ней свою кровь и царапины от ногтей.
Он чувствовал себя мышью, мечущейся в гигантском колоколе. А высоко под колокольным сводом гудела одинокая струна арфы. Дразнила его, манила его, притягивала к себе, дергая за поводок звука, вдыхала в его страх жизнь. Она усыновляла Греппина. Между матерью и бредущим в потемках ребенком сновали страхи. Он пытался оборвать поводок, но руки нащупывали пустоту. Словно кто-то играл с ним, ослабляя и натягивая веревку.
Еще один чистый струнный звук. И еще.
— Нет, перестаньте! — закричал Греппин. — Никакого шума в моем доме! Никакого — после того вечера две недели назад. Я сказал тогда, что больше не будет ни звука. И поэтому… поэтому шума не может быть! Это невозможно! Прекратите!
Он ворвался на чердак.
Облегчение, которое он испытал, едва не довело его до нервного срыва. Через прореху в крыше просачивалась вода, и капли со звоном падали на горлышко шведской стеклянной вазы.
Одним молниеносным движением ноги Греппин расколотил вазу вдребезги.
Переодеваясь в своей комнате в старую рубашку и брюки, он тихо смеялся. Музыка умолкла — он заткнул дыру, и снова ничто не нарушало тишины. Тишина бывает разной. У каждого ее вида свой характер. Бывает тишина летней ночи, которая на самом деле вовсе не тишина, а многоголосый хорал насекомых и жужжания электрических фонарей, что кружатся по своим маленьким одиноким орбитам над одинокими проселками, отбрасывая круги тщедушного света, которым кормится ночь. Чтобы услышать тишину летней ночи, надо слушать лениво, праздно, невнимательно. Какая же это тишина! Бывает еще тишина зимняя, заколоченная в гроб, готовая взломать свою темницу при первом дыхании весны. Все съежилось, сжалось, терпит и выжидает своего часа, памятуя, что холод рано или поздно отступит. Все так замерзло, что звенит от любого движения или взрывается от единственного слова, оброненного в полночь в хрустальном воздухе. Нет, это тоже недостойно называться тишиной. И еще — тишина, молчание, повисшее между влюбленными, которым не нужны слова. Щеки Греппина вспыхнули, он закрыл глаза. Это будет самая лучшая тишина, безупречная, совершенная. Тишина с Элис Джейн. Он позаботился об этом. Все было безупречно.