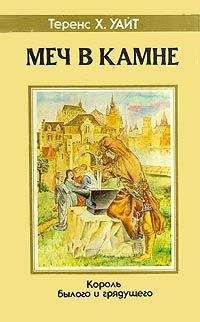Так.
Снадобья.
Что-то он такое говорил про медикаменты.
Если доктору Мак-Турку хочется отравить Хозяина, то сам он этого не может, потому что старик сразу бы разобрался в его намерениях.
Кстати и не удивительно, что он трясется от страха при каждой встрече с Хозяином. Боится, что тот его раскусит.
Ему приходится обходить Хозяина стороной.
При любой встрече, в любую минуту Хозяин может прочитать его мысли. Это все равно что написать на лбу печатными буквами: «Я СОБИРАЮСЬ ВАС ОТРАВИТЬ»и расхаживать вокруг, дожидаясь пока на тебя обратят внимание.
Конечно, он собирается его отравить. Это же очевидно. Скажет Никки, что Хозяин отказывается принимать лекарство, которое принесет ему пользу, и попросит, чтобы Никки тайком дал это лекарство Хозяину — так, чтобы тот ни о чем не догадался.
А сразу он Никки об этом не попросил потому, что не знает, закончил ли Хозяин изготовление той штуки, так что пока Никки нужен ему как информатор, и конечно он собирается его отравить, чтобы зацапать эту штуку!
Восторг, который вызвали в Джуди столь блистательные дедуктивные выкладки, несколько охладила внезапно пришедшая ей в голову мысль. Джуди подумала: Отравить? Этого просто не бывает, и уж не толстеньким человечкам, похожим на Санта Клауса, заниматься такими делами. Пожалуй, я несколько увлеклась.
Но тут же мелькнула другая мысль: А стрелять-то они в нас стреляли.
И она смиренно заключила свои размышления так: во всяком случае, Никки мои догадки могут заинтересовать.
Никки, когда он вечером вернулся с экзамена, ее догадки заинтересовали и еще как.
— Джуди, ты просто колдунья! Ты в самую точку попала! Все его хитрости за милю видать! Ты помнишь, как он сказал: «успокоительное для нашего досточтимого Хозяина»? Конечно, он хочет его убить, это самое подходящее дельце для таких, как он, сальных людишек. И конечно, из жадности. Ему нужна эта штука.
— Но что это за штука?
— А Бог ее знает.
— Может быть, Секретное Оружие?
— Все что угодно, Джуди. По моему сегодняшнему опыту судить, так она может оказаться даже квадратом гипотенузы!
И он рассказал ей о радостях образования.
— Зачем им нужно, чтобы ты знал дату открытия Колумба?
— Наверное, хотят выяснить, какой у меня коэффициент умственного развития.
— А загипнотизировать тебя они не пытались?
— Да там и Хозяина-то не было.
— А Китаец как себя вел?
— Стоял в сторонке.
— Хотела бы я знать, что он собой представляет.
— Ну, во-первых, он способен разговаривать без слов. Это мы видели. Помнишь, насчет Шутьки.
— Ты думаешь, он такой же старый, как Хозяин?
— Все может быть.
— А сколько Хозяину лет?
— Под рогами есть пластинка с датой, когда их добыли. Там написано 1879.
— Их мог добыть и отец Хозяина.
— Да, — но мог и он сам, и уже достаточно старым человеком. Это ничего не доказывает.
— Вид у него такой, словно ему около ста.
— Или двухсот.
— Ну, Никки, этого уже быть не может!
— Если на то пошло, ты же не можешь разговаривать без слов. Или загипнотизировать целый миллион рабочих. Или выдолбить изнутри скалу в самой середине Атлантики. Да практически ничего ты не можешь, что могут они.
И без особой радости поразмыслив над этим, Никки спросил:
— Как по-твоему, Джуди, возможно ли, чтобы нам удалось перехитрить таких людей?
— Знаешь, — ответила она, обдумав вопрос, — мне кажется, что у детей хоть и нет такого опыта, как у взрослых, но зато они иногда гораздо умнее. Возьми, например, хоть бедного старичка Трясуна. Ведь этот его лепет про государственные секреты и таракана-то не обманет.
Глава одиннадцатая
Конец Трясуна
Если бы им довелось сейчас взглянуть на Трясуна, они отвели бы глаза.
Стояла ночь, и темный Атлантический океан, уcмиренный туманом, мощно вздымался снаружи в свете летней луны. Большие валы, чьи ровные гребни разделялись расстоянием самое малое в двести футов, казалось, скользили вдоль лунной дорожки, почти не возмущая ее подъемами и падениями, и это при том, что они поднимались футов на двадцать-тридцать. Пилот гидроплана мог бы подумать, что океан спокоен, и приводниться себе на беду.
Перед закатом туман пролился дождем. Теперь разведрилось и влажный воздух взбодрил чету буревестников, часто вылетающих ночью. Незримые в темноте, они неслись быстро. Зримыми они становились, пересекая лунную дорожку, тогда было видно, как они скользят над валами, поднимаясь и опускаясь вместе с ними, как будто плывя по воде, хотя на деле они оставались в воздухе, поддерживая себя редкими ударами жестких крыльев, ложась то на левое крыло, то на правое, и на лету горланя. Они кричали: «Сам виноват!»и «Это враки!».
Черная глыба Роколла темнела на бархатистом и серебряном фоне, будто поставленный на попа кусок сыра, клином вырезанный из головки. Хоть и светила луна, звезды казались колючими, до такой чистоты был промыт воздух. Даже гагарки и чистики и те различались на вершине Роколла в виде зубчатой бахромы по его окоему, — чистики стояли, вытянувшись, как часовые, а гагарки лежали на брюшках, будто высиживали яйца.
Вообще-то на острове имелся радар, предупреждавший о нежелательных соседях.
Но нынче соседей не было, и окно гостиной Хозяина — одно из трех отверстий в отвесной стене утеса — стояло настежь. Густой свет его ламп изливался на зачарованную волну золотистым сиропом, споря с лунной дорожкой, безмолвной и одинокой среди одичалых вод, — ибо до ближайшей суши отсюда было двести пятьдесят миль.
Если бы под рукой у нас оказалась сейчас кинокамера, она отыскала бы в крутизне окошко и въехала внутрь, чтобы обнаружить внутри ученого старца, сидевшего в большом раскладном кресле с подушками. Чем ближе подбиралась бы камера к окну, тем громче становилась бы музыка, ибо вместе со светом ламп в ночь лилась и она. Фонограф был включен на половинную громкость. И мы бы увидели, как кружит на нем долгоиграющая пластинка, — фуговая математика Баха.
Впрочем, музыки Хозяин не слушал.
Он сидел в старомодном кресле, неподвижный, как кобра, и не спускал глаз с двери. Мягкий свет керосиновых ламп поблескивал на иссеченной трещинками слоновой кости его черепа.
Дверь, на которую он смотрел, отворилась и вошел доктор МакТурк.
Появление его представляло собой жутковатое зрелище — из тех, от которых волосы начинают шевелиться на голове. Прежде всего, он вступил в комнату медлительно и безмолвно. Кролик, зачарованный горностаем, замирает и принимается верещать, Доктор же, хоть и против собственной воли, но двигался — и молчал. Перемещался он медленно, ставя одну ступню перед другой, поочередно вытягивая перед собою каждую ногу, словно купальщик, пробующий воду, — ноги волочились, не отрываясь от пола, как будто доктор к чему-то подкрадывался, сам того не желая. Дверь отворилась с такой же медлительностью, с какой двигался доктор. Человек, входивший в комнату, смахивал на существо, вынужденное передвигаться на цыпочках из-за близости чего-то очень опасного, чего лучше бы ему не тревожить, — на обомлевшую жабу или лягушку, которую тянет к себе немигающий взгляд зеленой мамбы.