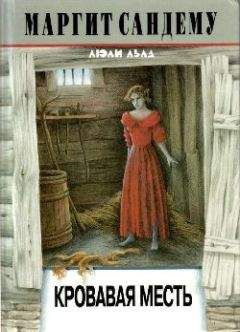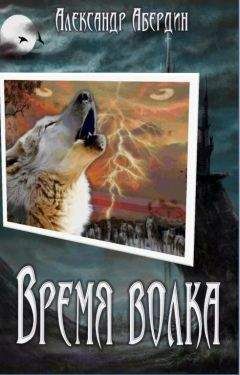Руки Доминика задрожали в ее руке. Он долго молчал, не в силах произнесли ни слова.
— Не нужно стыдиться, Виллему. Со мной тоже это бывало. Много раз. Ты же знаешь, что такое одиночество. Все это естественно.
— У тебя тоже бывали такие грезы? — тихо спросила она, — такие сны наяву?
— Да. И всегда о тебе. Он застенчиво улыбнулся.
— Виллему, на этот раз ты добилась своего.
— Как же?
— Я имею в виде себя. Я нуждаюсь в тебе именно сейчас.
Виллему чуть не лишилась чувств — и тут же просияла, ее лицо словно озарилось солнцем.
— Доминик! — восхищенно прошептала она. — Ах, любимый, любимый Доминик, я так счастлива! Я думала, что поступила плохо, рассказав тебе об этом!
В его глазах светилась нежность.
— Любимая, мы принадлежим друг другу!
— Да. Сейчас мы принадлежим друг другу. Ты сказал, что тебе нечего рассказать о твоем жизненном опыте, но я все же хочу, чтобы ты рассказал о твоих мечтах обо мне. В данный момент я так занята собой, что хочу услышать о твоих чувствах ко мне — ведь я уже говорю о своих чувствах слишком долго.
Он медлил, словно впитывая в себя хрупкую, печальную атмосферу их пламенной тоски. Стука топоров уже не было слышно, день клонился к вечеру, но они этого не замечали. Они видели лишь друг друга, пребывая в мире мечты, далеком от действительности.
Доминик говорил очень тихо.
— Если бы я сейчас имел доступ к тебе, я бы первым делом взял бы в свои ладони твое лицо. Сначала я бы долго смотрел на тебя, впитывая в свою память твои черты, потом коснулся бы губами твоей нежной кожи, поцеловал бы — словно в каком-то ритуале — твой лоб, глаза, щеки… наконец, твои губы…
Виллему громко и прерывисто дышала.
— Да-а-а… — шепотом отвечала она.
Она думала о своих оскверненных волосах, посиневшем от холода лице, думала о том, что теперь ей бы не мешало хорошенько вымыться… До нее еще не доходило то немыслимое, что Доминик признавался ей в любви. Мысль об этом так возбуждала ее, что она не в силах была додумать ее до конца.
— Продолжай… — пробормотала она.
— Потом я стал бы гладить тебя — медленно-медленно, осторожно, чтобы не спугнуть… Она засмеялась.
— Не думаю, что ты спугнешь меня этим! Но говори же дальше, Доминик!
— Мне так много нужно от тебя! Я часто испытываю острое желание обнять тебя за талию — только чтобы посмотреть, обхвачу ли я тебе одной рукой. Время от времени я бываю близок к тому, чтобы наброситься на тебя… нет, об этом вслух не говорят, так что можешь догадаться сама…
— Так оно и должно было быть, — вздохнула она, — Доминик, я не думаю, что сейчас смогла бы позволить себе что-то большее…
— Я тоже, — шепотом ответил он.
— И все же я хочу выслушать тебя.
— Потом мои руки спустятся к вороту твоего платья: они давно жаждут этого. Я не смогу противостоять этому желанию. Я обниму…
Он не мог найти подходящих слов.
— Я понимаю… — торопливо ответила Виллему, чувствуя трепет и жар во всем теле, — Доминик, от твоих слов мне так… жарко! Так жарко, словно в амбаре горит костер!
— Я чувствую то же самое, — сказал он. — Мне продолжать?
— Нет, нет. Я обниму руками твой затылок, прильну к твоей груди, потому что не смогу посмотреть тебе в лицо, не смогу показать тебе мое… вожделение!
Они в отчаянии держались за руки, Виллему подалась слегка вперед, нетерпеливо переступая ногами.
— Да, — прошептал он. — И пока ты будешь прятать свое лицо, я подниму твои юбки!
— А под ними ничего нет, — шептала она.
— Виллему, мы зашли так далеко, что я больше не в силах стоять на ногах. Не кажется ли тебе, что нам лучше лечь?
Она вздохнула.
— Да, это лучшее, что может быть… — торопливо и испуганно произнесла она. — Это становится невыносимым…
— Я хочу пробраться к тебе…
— Давай, и поскорее!
— Нет, ничего не получится… Если бы я был в полной силе, я, возможно, мог бы выломать жердь, хотя все они крепко вбиты в землю. Но у меня сейчас нет силы в руках, я не могу ни за что взяться, пока не заживут раны. Виллему, что же нам делать?
Голос у него был такой растерянный, такой опустошенный, что мечта вмиг испарилась. Оба почувствовали безнадежность ситуации во всей ее жгучей остроте.
Виллему убрала руки, закрыла ими лицо и опустилась, рыдая, на колени.
Доминик не нашел слов утешения.
В амбаре стало почти совсем темно. Одновременно с этим похолодало. Все контуры стали расплывчатыми и туманными, стоило только угаснуть безнадежной вспышке чувств. По краям рта Доминика пролегли горькие складки: он ничем не мог помочь своей возлюбленной. Единственной надеждой его было то, что утром он наберется сил и взломает дверь или перегородку — и они смогут убежать. Но откуда у него будут силы, если их перестали кормить? Оба они страдали от голода.
Он еще не знал, что никакого утра у них не будет…
А в это время воллерский помещик и его друг судья приближались к амбару. Они собрали всех своих людей, чтобы все они были свидетелями замечательного спектакля — когда старое, заброшенное поместье вместе с амбаром будет объято пламенем.
Такой костер стоил ведьмы из рода Людей Льда!
В Гростенсхольме решили, что нужно взять с собой нотариуса. Ведь им предстояло иметь дело с судьей, а тут далеко не уедешь, когда на твоей стороне лишь простые норвежские граждане.
Андреас поскакал за ним на рассвете, и пока все ждали их, Маттиас вместе с Никласом занялся Скактавлом.
Молодой Никлас, получивший в пятилетнем возрасте крещение огнем при спасении жизни Микаела, редко использовал свои удивительные способности. Отчасти потому, что сам побаивался их, а отчасти поддаваясь необъяснимому предчувствию того, что нужно экономить силы для предстоящей ему в будущем задачи. И после того, как ему пришлось отказаться от Ирмелин, он стал ко всему равнодушен — но Скактавл стал исключением.
Они не очень-то надеялись, что этот дворянин выживет — слишком серьезны были его ранения. Но в нем еще теплилась жизнь, и они старались сделать все, что было в их силах. Время от времени Маттиас доставал старинные запасы Людей Льда, что делал крайне редко. Он рылся среди своих разложенных по порядку ведьмовских снадобий, стараясь найти средство, дающее изможденному телу новые силы для борьбы со смертью.
Никлас тяжело воспринял исчезновение Виллему. Он никак не мог простить себе, что в течение последнего года относился к ней с таким высокомерием. Конечно, он питал отвращение к Эльдару Свартскугену и считал, что она ведет себя как дура. Его раздражала ее эгоистичная скорбь и тоска после его смерти. Но ведь одно это не давало ему повод для высокомерия! Разве сам он не убедился в том, что любовь может совершенно изменить человека? Разве он сам не вел себя глупо, добиваясь благосклонности Ирмелин? Что же касается эгоцентризма… Нет, Никлас чувствовал себя пристыженной собакой. И сознание того, что он, возможно, никогда не сможет попросить у нее прощения, преследовало его день и ночь, толкая на поиски: никто так неустанно не рыскал в лесах вокруг Гростенсхольма и Энга, никто так горячо не молился Богу, как Никлас.