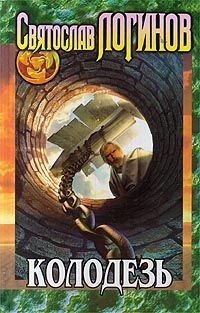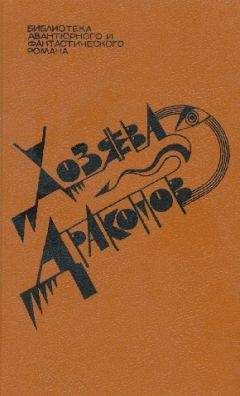Ознакомительная версия.
Старик помолчал, верно, ожидая рассказа, потом проговорил:
– То-то я смотрю: они тебя в землю прикопали. Это у них что же – вроде как у нас колодки?
– Скорей уж дыба, – поправил Семён, – и длинник без пощады. Персы народ безжалостный.
– А я всех жалею, – сказал старик, – и правых, и виноватых. Не мне их судить, пусть господь судит. Он поднялся.
– Однако, что тут сидеть? Свежо становится. Пошли к дому. Водицу только перельём – себе ведь тоже надо, а то стряпать не из чего будет. Хозяйки у меня нет.
Семён послушно встал, хоть и не знал, куда идти. Стоит колодезь, пятачок травы под ногами, огрызок тропинки, а дальше нет ничего. Ни тьма не разливается, ни туман не клубится, не-громоздится каменной стены, не алчет пропасть бездонная, а прямо-таки совсем ничего нет. И всё же Семён не боялся. Старик уходил в это ничто, исчезал и являлся вновь. Он привёл сюда Семёна, он и выведет. А то зачем было приводить?
Семён ждал, что старик опять ухватит его за руку, но тот просто побрёл вниз, и на третьем шаге безо всяких чудес перед ними открылась мирная вечерняя даль.
Они очутились на вершине холма, и колодезь, простой и доступный всякому, находился тут же, саженях в двух. Неясно было, отчего это только что Семён зги не видал. Сейчас видно было далеко и просторно. Внизу текла река, закатное солнце пускало по течению кумачовую полоску. Большая река, привольная. Куда до неё Ефрату с Иорданом. Вот Волга – та побольше будет, но Волга вперёд катит неудержимо, а эта, не торопясь, кладёт извивы, гуляет привольно, крутит, словно малая речушка, стараясь поймать устьем собственный исток.
И на всём неоглядном просторе ни единого человеческого жилья – сплошной лес зеленеет вблизи, грозовой синью темнеет в далях. Заповедные чащобы, пустынь христианская.
– Батюшка, – робко позвал Семён, – что здесь за места?
– Река Сухона, – ответил чудотворец, поспешая по тропке вниз, где у малого ручейка обнаружился похилившийся домик, – а места – известно какие: лесные у нас места. И до Вологды далеко, и до Костромы далеко. А до Тулы твоей и вовсе даль несказуемая.
– Свои, значица, края, – выдохнул Семён. – Русские.
* * *
Старик назвался дедом Богданом. Дом его, старый и неухоженный, ничем особо не отличался от всякого иного бобыльского жила. Сор на полу, немытые миски и корчаги как попало распиханы по лавкам и полкам, на шестке – махотка со вчерашними недоеденными щами, на печи – протёртая до лысин овчина и ветхий тулуп: старость любит спать в тепле. Образа в красном углу простые, без окладов, до того закопчённые, что и ликов различить не можно.
И ничто не указует, какой человек обитается среди ветшалых стен. Так, старичок, небога. На него дунь, он и рассыплется. А на деле – божий угодник.
Семён торопливо схватился за работу, размышляя, отпустит его старик домой или оставит при себе. Да и просто прогневать отшельника страшно; осерчает, кинет обратно в Аравию на заклание Мусе, что тогда?
– Ишь ты какой шустрый, – сказал дед Богдан, – кружишь, как муха под потолком. Погоди, не мелькай, сейчас печку растоплю, будем щи хлебать.
Старик нагнулся к холодному челу печки, застучал кресалом. Семён кинулся за поленьями, сложенными под поветью.
На улице по-северному медленно темнело. Под вечер и впрямь стало свежо, но верблюжий бурнус, спасающий от немилосердной жары, берёг и от холода. Семён перекрестился, привычно повернувшись к востоку. Слава те, господи, кажется, добрый человек Аль-Биркер. Хоть бы отпустил с миром. Век бога молить буду.
Семён набрал полешков потоньше и поспешил в избу.
Щи у отшельника оказались с убоиной. Густые щи, жирные. Вместо капусты – какая же капуста летом? – не завязалась ещё – накрошено всякой зелени: крапивы, щавелю, свекольной ботвы, что дёргают, когда рядки редят. А и без капусты добро выходит, ежели с мясом.
Хлебали из одной миски, как на Руси принято. Семён ел осторожно, стараясь не зацепить лишний кусок, не задеть старца по ложке. А потом когда уже со дна таскали накрошенную солонину, стукнула Семёну в голову непрошеная мысль, и застыл Семён, не донеся ложки до рта.
– Государь, – произнёс он испуганно, – может, я времени счёт потерял?... Сейчас, поди, Петровки в самом разгаре.
Старик облизал ложку, положил её аккуратно на стол, перекрестился на чёрные образа.
– Может, и так, – спокойно сказал он. – Я тут в глуши тоже всякую память потерял. Но пока господь грехам терпит, – дед Богдан усмехнулся и добавил: – Отец Агафангел, священник хворостинский, меня анафемствовать хотел, так его протоиерей за самоуправство смирял. А заодно и мне досталось; две недели на монастырском подворье в железах сидел.
Этого обыденного разговора Семён восприять не мог.
– Как же это, милостивец? – прошептал он. – Тебя в железа?! Ты же святой человек, по всему Востоку о тебе слава идёт!
– А мне и невдомёк! – весело воскликнул старик. – Ну-ка, расскажи.
Внимательно выслушал сбивчивый рассказ Семёна, усмехнулся странно, сказал:
– Ишь ты, как оно... А я-то гадаю, куда меня бес носит... Святым, значит, чтут?... Лестно. А дома – нечестивцем слыву, колдуном проклятым. Ну-ка, повтори, как они меня величают?
– Дарья-баба.
– Тоже любопытно. Я себя всю жизнь мужиком почитал, а на поверку бабкой Дарьей оказался.
– Не Дарьей, а Дарьей. Дарья-баба значит – водяной старик, по-персидски. У них половина слов этак-то перевёрнуты.
– По мне – хоть горшком назови, только в печку не ставь. Дарья так Дарья.
Он помолчал минуту и снова повторил про себя:
– Святой, божий любимец... Не-ет. Святые подвиг молитвенный вершат, а у меня на образах паутина. Я человек грешный. Места тут, верно, предивные, а я среди них, как прыщ на носу, торчу. Поди, на Страшном суде все мои окаянства скажутся, увидишь, каков святой.
– Господине, – возразил Семён, – не клепли на себя. Сам твои чудеса видел. Если не бог, то кто?
– Не знаю, – старик был совершенно спокоен, как не о себе рассказывал, – Я своей доли не просил и не искал. Само вышло. Жить стало негде – вот я и поселился здесь. А про заимку мою давно слава дурная идёт: мол, черти тут водятся в омутках. Так я чертей не боюсь: пришёл и стал жить. Никто меня не тронул, никаких чертей не видать. И остальное – тоже само. Душа у меня мягкая, всех жалею. Колодезь вон на пригорке вырыт, никто к нему ходить не станет – далеко. Ему, поди, обидно. Вот я и пошёл. Намаешься, пока бадью вытащишь, зато вода вкуснющая – страсть! Так я в привычку взял: туда ходить. Сначала всё ласкался мыслью, как прежний хозяин, кто колодезь копал, радуется, что не даром труждался. А раз, я тогда болезнью залежал, и совсем недужно стало бадью тащить, пришла в голову мыслишка шальная. Есть, думаю, в мире такие края, где по божьему гневу пить нечего, а я тут в водах, как в сору, роюсь. И так я о тех горемыках затужил, что услышал господь мою молитву и открыл путь. А может, и не господь – отец Агафангел говорил, что меня адский князь водит. Но я тому не верю: никто не может двум господам работать, а я воду ношу с именем Христовым. А что к бусурманам попадаю, так их тоже господь сотворил. А коли не так – пусть на мне сатана на том свете и дальше воду возить станет. Верно я говорю?
Ознакомительная версия.