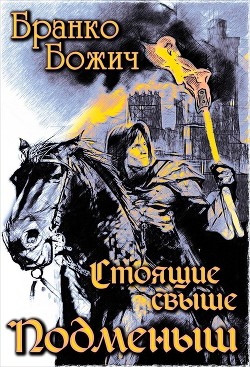— А кто такие чудотворы? — поинтересовался Зимич, подумав при этом: не волшебники ли это, которые умеют творить чудеса?
— Ты не слыхал о чудотворах Предвечного? — рассмеялся самый молодой из его попутчиков.
— Не смейся, — одернул его старший. — В Лесу и о Предвечном-то не слыхали, а уж о его чудотворах…
Да, в Лесу и в самом деле не очень верили в Предвечного… Впрочем, в университете тоже велись бесконечные споры о его существовании. На философском факультете, как водится, изучали феологию, но эта дисциплина не нашла большого числа приверженцев — Зимич посетил две лекции прибывшего из Лиццы Надзираюшего, поспорил с ним немного и оставил бесплодные попытки убедить закостеневшего в догматах Храма феолога. Даже оттачивать на нем умение вести диспут было неинтересно: о чем говорить с человеком, логика которого лежит на постулатах, в которых нельзя усомниться? Однако Зимич неплохо представлял себе догматы Храма и видел, какая каша намешана в головах простолюдинов, ищущих защиты и у Предвечного, и у деревенских колдунов, которые не желали слышать о Предвечном, провозглашая его едва ли не предводителем злых духов. Да и зачем людям Предвечный, если колдун лечит от болезней, предсказывает будущее, вызывает дождь на поля и солнце на время сенокоса?
— Чудотворов Предвечный послал, чтобы защитить нас от семиглавого змея, который скоро явится, чтобы пожрать весь мир.
Семиглавого змея? Уж не ручного ли? Ручного змея на службе волшебника, умеющего творить чудеса? Да и с откровением, которое явилось служителям Предвечного, тоже было что-то не так. Слишком напоминало предсказание смерти некоего никому не известного Ламиктандра… И не в стихах ли оно было явлено?
Странную процессию проповедников в рубищах Зимич застал на постоялом дворе: там их вой обрел некоторый смысл. Люди звали их к кострам, накидывали им на плечи тулупы, давали хлеба и хлебного вина — но вина проповедники не пили. Зато охотно рассказывали сказки о наступающем конце света. То ли они и в самом деле были слегка сумасшедшими, то ли с ума их сводил зимний холод, то ли — и в это Зимич поверил более всего — все они отравились каким-то ядом, из тех, от которых людям являются и не такие откровения. Потому что живописали они конец света в умопомрачительных подробностях, только путано, а оттого еще более жутко. И непонятно было, то ли Предвечный так сердится на людей, что насылает на них многоглавого змея — а с ним еще множество опасных и ядовитых тварей, вроде скорпионов с львиными головами, — то ли многоглавый змей сердится на Предвечного и ведет с собой воинство Зла. Но, так или иначе, чудотворы — воинство Добра — встанут на защиту людей от всех этих чудовищ. Однако победить смогут лишь тогда, когда люди повернут головы в сторону Добра и отрекутся от Зла в самих себе.
Зимич попытался задать несколько вопросов продрогшему проповеднику, но тот впал в неистовство, плевался, махал руками и вопил о том, что Зимич есть защитник Зла и своими злыми речами хочет приблизить конец света. Позиция проповедника в споре была беспроигрышной, Зимич не раз слышал о подобном способе ведения диспутов и даже сам когда-то пытался его освоить, но так и не сумел: ему больше нравились честная логика и веские аргументы, а не хитрость и подтасовка фактов.
Еще одно явление заставило Зимича всерьез задуматься о переменах, произошедших в Млчане в его отсутствие: два десятка вооруженных всадников под белыми знаменами и с белыми кокардами на высоких собольих шапках примчались на постоялый двор, чтобы поужинать и сменить лошадей. Постоялый двор притих и словно скукожился, хозяин трактира самолично выскочил всадникам навстречу и разве что не расстелился перед ними ковровой дорожкой. Они платили золотом, но не жадность толкнула толстопузого трактирщика на мороз — страх. Будто не отряд воинов, стоящих на страже закона, явился к нему в гости, а шайка разбойников, творящая беззакония.
— Гвардия Храма Добра, — с уважением шепнул Зимичу его попутчик.
Сколько Зимич себя помнил, храмы Предвечного не содержали гвардии, Лиццкая Консистория, при всем своем могуществе, в случае надобности обращалась за помощью к светским властям…
Гвардейцы вели себя бесцеремонно, и гости постоялого двора старались не попадаться им на дороге. Один из них подошел к костру, возле которого сидел Зимич с попутчиками, подозрительно посмотрел на их лица, кивком поклонился проповеднику и придвинул руки к огню — ему без слов уступили место. На самом ли деле проповедник глазами указал на Зимича гвардейцу, или это только показалось? Тот долго разглядывал его сквозь пламя костра, а потом спросил:
— А что надо охотнику на этом тракте?
— Я не охотник, — ответил Зимич. — Меня зовут Стойко-сын-Зимич Горькомшинский из рода Огненной Лисицы, и я иду домой, в Горький Мох.
Попутчики слегка отстранились от него — не ожидали, что везут с собой отпрыска столь знатного (по их мнению) рода. Но на гвардейца его признание впечатления не произвело, он лишь кивнул удовлетворенно. И на лице проповедника появилось понимание — печальное и жалостное, словно Зимич сообщил ему о своей смертельной болезни.
— Ты, наверное, учился в университете? — тихо спросил проповедник.
— Да, я учился в университете.
— Теперь понятно, — вздохнул тот. — Рассадник заразы, которую сеет среди нас Зло. Но это не страшно — Зло в себе можно преодолеть. Главное, вовремя ступить на путь Добра.
Зимич не стал отвечать на столь расплывчатое предложение, памятуя о том, как проповедник брызгал слюной несколько минут назад.
— Смотри, не ступишь на путь Добра — мы тебя поставим на него силой, — громко расхохотался вдруг гвардеец, очевидно, довольный своей шуткой.
— Если путь Добра выбирают по принуждению, то верно ли ему после этого служат? — усмехнулся Зимич.
— Еще как верно, парень. — Воин посмотрел на него, сузив глаза. — Еще как верно! Верней, чем по своей воле.
Зимич нашел происходящее странной выдумкой, рассчитанной на темное мужичье. И снова подумал о возвращении в Хстов, в Университет, а не в Горький Мох. Дабы получить объяснения из уст образованных людей, а не от наглого гвардейца-разбойника или слегка чокнутого проповедника.
Но после обеда, вспомнив об отсутствии денег, в продуваемом ветром поле, по которому шел тракт, Зимич передумал: хотелось домой. Хотя бы на несколько дней. Хотя бы до конца праздника Долгих ночей.
И на распутье он попрощался с деревенскими, но все равно некоторое время стоял, не решаясь свернуть к отчему дому, и даже порывался догнать уходившую телегу: что-то свербело внутри, совесть нашептывала, что надо идти в Хстов, но Зимич вдруг подумал, что может поговорить обо всем этом и с отцом, зачем ему университетские профессора? Ему грезилась изразцовая печь в собственной комнате, горячее вино, лампа на столе и мягкая постель. Он не вспомнил, ради чего когда-то бежал в Лес.
Дома он в последний раз был ровно четыре года назад, в каникулы, приуроченные к празднику Долгих ночей.
Всего четыре лиги… Каких-то пять часов пути по дороге, снег на которой уже примяли чьи-то быстрые сани… Зимич напоследок глянул на уезжавшую телегу, махнул рукой и повернул в Горький Мох.
Снова посыпался снег, и метель быстро замела проезжую дорогу. И чем ближе был дом, тем острей Зимич чувствовал усталость, и холод, и ветер. Тем сильней саднило обмороженные щеки и ныли закоченевшие, негнувшиеся пальцы.
Горький Мох — скорее хутор, чем поместье — уже спал. Три ветхие крестьянские избы не дымили печами, в окнах не теплилась лучина. За ними вдаль уходили голые поля, по которым гулял ветер, с противоположной стороны стоял прозрачный сосновый бор, где в детстве Зимич провел столько времени, а дом тонул в кружевном заснеженном саду. Зимич редко скучал по дому, почти никогда о нем не вспоминал, но тоска стиснула сердце сладкой, щемящей болью, когда он ступил на расчищенную дорожку, бежавшую к крыльцу. И без того низкие ветви яблонь, вишен и слив опустились под тяжестью снега, и приходилось нагибаться, чтобы они не попадали в лицо. Кусты смородины и крыжовника превратились в высокие сугробы — на них отбрасывали снег, когда расчищали дорожку. Телеги и сани заезжали на задний двор, обходя сад стороной.