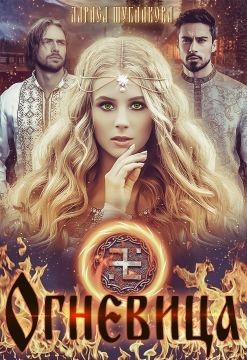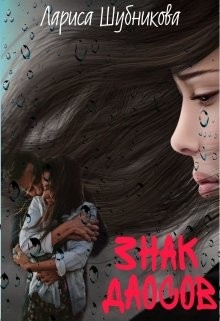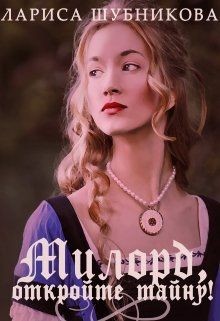— Сыночек, радость-то какая. Хорошо ль дошли?
Из-за угла богатейших хором Деян показался, опричь него внук вился — Желан — дергал деда за порты, просил обсказать про насады, злился, что не пускают с батькой по большой воде до Нового града. Деян отругивался, мол, тебе токмо семь зим стукнуло, расти пока, сил набирайся. Будут тебе и насады, и торг Новоградский.
Увидали Некраса, подошли ручкаться. Видана Любимку поднесла: мальчонка улыбался, к отцу руки тянул.
Некрас сыновей обнял, мать с отцом приветил. Но чуял — медовая с него глаз не спускает, ждет, когда к ней подойдет.
— Деян, кликай Званко и к нам вечерять пойдем, — Видана мужу подмигнула, мол, соображай старый хрыч быстрее.
— И то верно, Видка, — Квит-старший подхватил Желана, за собой потянул. — Званко! Вылазь, леший косматый. Куды сбёг?!
Краем глаза приметил Некрас, как кивнула Видана невестке, та в ответ; вроде уговорились о чем-то. А уж потом повернулся к медовой.
Любовался, инако не скажешь. Бабой стала, то правда, но расцвела с летами. Кожа гладкая светлая: ни пятнышка, ни засеченки. Косы — долгие и густые — на солнце закатном блестят переливчато. Налитой груди тесно в бабьей рубахе. Стан тонкий, прямой. Понева ладно сидит, туго оборачивается вокруг стройного тела.
Она и не двинулась навстречу, повернулась спиной к нему, и пошла: плавно, неспешно. Некрас бросил свой короб в руки подлетевшему холопу и за ней; манила, тянула к себе так, что словами не передать.
— Медовая, слово-то кинь, приветь мужа. Чай не чужак какой в дом явился, — шли неспешно, опричь хором, просторных и богатых, по чистому двору, под уклон да к самой речке.
— Здрав будь, — по голосу понял, что улыбается.
— И все? Куда ведешь-то? — смотрел на поневу вышитую, что натягивалась на теле.
Остановилась у бани новой — по весне ставили — обернулась.
— Так про зайцев слушать, любый. Куда ж еще? — голосом заворожила, глазами высверкнула.
Некрас только головой тряхнул, будто смахивал с себя волшбу чудную. Да все бес толку! Глядел, как медовая медленно на крылечко ступает, не сдержался, подскочил к ней и внес в предбанник душистый. Дверь прихлопнул накрепко.
— Играть вздумала? Берегись, медовая! — прижал жену к стенке, прошелся по телу налитому широкими ладонями. — Скучала?
— Скучала, скучала, Некрас… — с дыхания сбилась, потянулась и поцеловала: жадно, да наскоро.
На поцелуй ответил горячо. Взялся за ворот рубахи, спустил одежку, освободил из плена тугого грудь — белую, влажную от зноя летнего — прошелся поцелуями жаркими. Медвяна схватилась за подпояску его: дышала часто, ждала.
Вот такой он любил ее более всего: нетерпеливой, смелой и нестыдливой. Подхватил жену, опрокинул на лавку и не стал томить любую: взял сей миг, глубоко, да сладко. Сам пропал и ее за собой утянул….
Через малое время она вздрогнула, застонала. Откинулась на лавке, изогнулась кошкой, и уронила голову на струганую доску. Только звякнули кольца в косах, что не снимала ни единого дня с самой свадьбы на лесном-то капище.
Некрас и себя отпустил, уткнулся носом в шею жены, вздохнул протяжно и счастливо. А потом уж и засмеялись обое. А чего ж не порадоваться? Вон ведь как любится-то, ласкается.
— Некраска, а ведь знала я, что нынче объявишься. Сон видала, — гладила по волосам, нежила.
— Иной раз думаю, уж не волхва ли ты? Сны-то вещие видишь и все правдой получается, — потянулся снять с жены поневу, рубаху скинуть.
Оглядел нагое тело, прошелся поцелуями по животу гладкому, положил на него ладонь.
— Медовая, должок с тебя. Ты мне дочь о прошлом годе сулила. Где? Чего смеешься? Дочь, спрашиваю где? — брови насупил, но не стерпел, и засмеялся вместе с женой.
— А то сам не знаешь где? — обняла лицо его ладошками теплыми, поцеловала нежно. — Все подарю, Некрас. Ты токмо люби жарче.
Кивнул, послал ей взгляд теплый, получил ответ безмолвный, и улыбнулся тому, что разумеет его Медвяна без всяких слов.
Прижал к себе жену, голову ей на грудь опустил, да и замер в тишине счастливой. Слушал, как бьётся ровно под его щекой сердце медовой. И видел, как блёстко подмигивает Огневица, которой одарил Медвяну в день свадьбы.
Вот он дар богов — лучится любовью, радостью исходит, делает явь отрадной. Припомнил другой оберег, тот, что оставил волхве Луганской, да и разумел — руна та же, кругляш такой же, а сколь непохожие, сколь разные планиды их и деяния. Должно не всякий оберег бережёт, не каждая женщина единственной становится, и не всякая любовь — твоя.
Эпилог
Осень-то выдалась отрадная, теплая. Лугань будто укуталась в позолоту листвяную, в синь небесную и нежилась в тишине и безветрии. По вечерней поре народ выбирался с подворий своих, гомонил на все лады: кто шутковал, кто переругивался. Но все без злобы, словно уняла тихая осень печали, обиды, зависть и иные заботы и тревоги людские.
Всеведа стояла у ворот дома своего богатого, глядела на городищенских: кому-то радовалась, о ком-то печалилась. А как иначе? Почитай про всех ведала мудрая волхва; на ее глазах рождались, росли, взрослели. Многих и за грань проводила… Жизнь такая, и изменить ее не под силу человеку. А уж если хорошенько задуматься, то и богам не совладать с извечным порядком яви.
Сама волхва постарела, подалась, но все еще прямила спину, смотрела зорко, сверкала рыжими глазами. От ее взора ничего и не укрывалось: мудра, востра умом и приметлива.
Заметила Всеведа жену Тишки Голоды. Шла баба по улице, тянула за собой двух сыновей: мал и поменьше. Не улыбалась и по сторонам не глядела — недосуг. У Голодавых бездельем не маялись, глава рода смотрел за тем строго. Так откуль радости взяться? От работы хребет трещал, руки плющились, да седина ранняя в волосах серебрилась. А этой-то свезло еще меньше, чем иным.
Знала Всеведа тайное о ней, да и как не знать, если сама тому зачинщицей стала. Помогла советом бабе несчастной, а теперь вот любовалась на дело рук своих.
Зим восемь тому притекла к ней жена Тихомира, в ноги бросилась, плакалась, что дитя зачать не может: пустая, да негодная. Всеведа и пожалела. Оглядела бабу и поняла — такой рожать, да рожать. И беда-то не в ней, а в муже снулом. Растолковала все женщине, а та разумела, но зарыдала еще горше. Всеведа долгонько гладила ее по спине, утешала, да и мыслишкой с ней поделилась.
Баба охнула, принялась отнекиваться, но спустя малое время, уразумела — права волхва. А в положенный срок разрешилась мальчишкой крикливым и здоровеньким. Принесла его к Всеведе, да поклонилась волхве мудрой: за науку благодарила, за тайну.
Всеведа и молчала… Да и кому какое дело, чей ребятенок? Тихомиров или братца его старшего? Род-то один, кровь та самая. На подворье Голодавых детишек не счесть, так средь них и затесались парнишки: светловолосые, голубоглазые. Пойди, разбери — папкин али дядькин?
С того дня сама волхва для себя и вывела — от пустоты ничего не родится. Жил и живет Тихомир словно листок на ветру качается: куда подует, туда и поворачивается. Внутри пусто, в голове гулко. Вроде есть человек, а вроде и нет его.
Проводила взглядом бабу несчастную, а там уж и за других уцепилась. Цветаву приметила. Приехала с мужем к родне своей: проведать, дочкой-красавицей похвалиться, подарками богатыми одарить.
Всеведа улыбки не сдержала. Ить какая баба-то стала! Спокойнёхонькая, счастливенькая. Не идет — плывет. Красой своей по сию пору затмевает девок, что помоложе, да поигреливее. С мужем — купцом богатейшим, пожилым — слюбилась. Прилепилась к нему, как березка тоненькая к старому дубу, обвилась вокруг, и в том опору сыскала и счастье бабье. Вон как бывает-то: говорят, что при хорошей жене любой мужик — сокол. А тут иное — при справном муже жена цветет, сияет, да и ума набирается.
Цветавин муж вел за руку дочку Велену — годков десяти — обсказывал ей про Лугань. Та слушала без улыбки, но по всему было видно — запоминает, разумеет, и не таращит попусту глаз, все впрок принимает. Девочка-то непростая, то волхва сразу углядела.