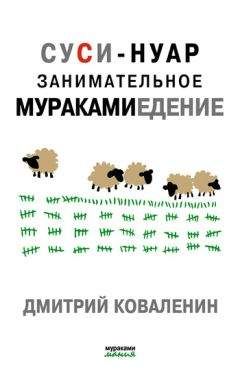Помоги мне, Жан-Клод!
Дверь в ванную за моей спиной открылась, и появился Джейсон, замотанный полотенцем.
— Уходи, — сказал ему Ричард.
— Помоги! — попросила я.
На миг я ему посочувствовала — положению Джейсона не позавидуешь. Если он мне поможет, Ульфрик будет зол. Если не поможет, злиться буду я, а потом и Жан-Клод.
Я понимала, какова его дилемма — попасть между вервольфом и вампиром. Но даже сочувствуя его положению, я куда больше была занята своим. Ричард наконец-то унаследовал ardeur, и сейчас напускал его на меня.
Джейсон заговорил так, как говорят с самоубийцей, стоящим на карнизе высоко-высоко над землей:
— Ричард, Анита, что тут происходит?
— Оставь нас, Джейсон, — велел Ричард и попытался притянуть меня к себе поближе.
Я напрягла колени и вторую руку, как бывает иногда в дзюдо. Не тогда, когда рассчитываешь выиграть схватку, а чтобы противнику для победы пришлось с тобой повозиться, пусть тебе и будет больно. У меня не хватило бы силы не дать Ричарду притянуть меня к себе, но хватит, чтобы при этом ему пришлось помять меня как следует. «Браунинг» лежал на кровати — да я и не стала бы, честно говоря, стрелять в Ричарда. Он это знал, и я знала, что он знает. Нет, бывали моменты, когда я могла бы и нож пустить в ход, но не пистолет. Я не стала бы рисковать тем, что его убью. А если ты отказываешься убивать того, кто сильнее и больше тебя, то в определенном смысле ты отдаешься на его милость. И остается надеяться, что он будет милостив.
Я бы посмотрела в лицо Ричарду — увидеть, есть ли там милосердие, но не хотела встречаться с ним взглядом. Даже когда его рука меня касается, и то тяжело отбиваться от его силы, и я не могу себе позволить снова упасть ему в глаза — обратно мне уже не выбраться. У него ardeur слегка иной, не такой, как у меня. В нем жизни больше — за отсутствием лучшего термина. Моя самая большая сила связана с царством мертвых, а не живых, а Ричард — очень, очень полон жизни.
— Это ardeur, — сказал Джейсон, — но он не заставляет меня желать к тебе прикоснуться, Анита.
— Вернись в ванную, Джейсон, — приказал Ричард. Едва заметная нотка рычания послышалась в его голосе.
Джейсон вцепился в дверную ручку побелевшими пальцами.
— Он невероятно силен. Просто дышать трудно. Но направлен он на тебя, Анита. Я его ощущаю, как повисшую в воздухе мысль. Он хочет, чтобы ты желала его и только его. Но какая сила, господи!
— Помоги мне! — взмолилась я.
— Убирайся! — зарычал Ричард.
— Ричард, Ульфрик! Ты сейчас делаешь то самое, в чем обвинял Жан-Клода.
Ричард вздернул голову и посмотрел на Джейсона — Джейсон отвел глаза.
— У тебя глаза горят как у вампира, Ричард. И я знаю, что, когда у вампира такой взгляд, нельзя смотреть ему в глаза.
Джейсон не скрыл страха в своем голосе. И я, пожалуй, впервые поняла, что он боится вампиров.
Ричард пытался притянуть меня к себе, а я упиралась рукой в пол. Но не силе его руки мне было трудно сопротивляться, а теплому и сокрушительному объятию его неотмирной силы. Как что-то живое, теплое, жадное, она тянула меня к себе уверенно и определенно, как рука. Не к одной похоти она взывала — это было обещание, что стоит мне поддаться — и он окутает меня теплом и защитой своей любви, и не будет никогда больше ни страданий, ни сомнений.
Но мне уже приходилось такое испытывать. Огги мастер города Чикаго, умел заставить тебя его полюбить. И все-таки даже он не мог создать такого ощущения — настоящего. Да, но это и было настоящее, или когда-то было. Огги был чужой, и логика разума мне подсказывала, что это фокус. А Ричард предлагал настоящее, потому что когда-то оно чуть не стало настоящим. Когда-то вера, что его любовь исцелит все старые раны и даст мне ощущение безопасности, было правдой. Правдой — и ложью. Любовь — и правда, и ложь, даже истинная любовь. Потому что одна только любовь не даст тебе ощущения безопасности, если внутри тебя есть дрожащий страх, есть память о том, что значит любить и верить — и вдруг все это потерять. И не измена моего жениха времен колледжа создавала этот страх, а как всегда — гибель матери. Если эта правда оказалась преходящей, что же тогда говорить о мужчинах?
И вот эта мысль дала мне силы оттолкнуться прочь от тепла Ричарда. Эта мысль помогла выплыть наверх в водовороте его любви. Как его рука оказалась слишком грубой и сделала мне больно, так и эта утрата была самой большой болью в моей душе. Именно эта зияющая черная дыра и заполнилась много лет назад яростью. Оттуда исходила моя ярость и туда уходила, как приливы и отливы какого-то океана. Боль — она всегда способствует сопротивлению вампирской силе.
Я позволила себе ощутить эту утрату, о которой всю жизнь стараюсь не думать. Я дала себе наполниться ощущением ярости и потери, и не было в мире ни вожделения, ни желания, ни любви столь сильных, чтобы победить эту скорбь.
Скорбь считают чем-то аморфным, созданным из воды и слез. Но настоящая скорбь не такова — она жесткая, она из огня и камня. Она жжет сердце, она сокрушает душу тяжестью горного хребта. Она убивает, и даже если ты продолжаешь дышать и двигаться, ты погибаешь. Та, кем ты была секунду назад, погибает на месте в грохоте искореженного металла в столкновении с нерадивым водителем. Все реальное, все ощутимое пропадает — и никогда не возвращается. Мир расколот навеки, и ты шагаешь по земной коре, и она подламывается под тобой, и ощущается внутренний жар, давление лавы, готовой сжечь мясо, расплавить кости, отравить самый воздух. И ты, чтобы выжить, глотаешь этот жар, чтобы не провалиться, не погибнуть на самом деле, проглатываешь всю свою ненависть, заталкиваешь внутрь себя, в свежую могилу, оставшееся от того, что было твоим миром.
Я не такая дура, чтобы смотреть ему в глаза, но голос у меня звучал твердо и уверенно, когда я сказала:
— Ричард, отпусти меня. Ощущение безопасности ты мне не создашь. Тебе не залечить то, что во мне сломано.
— Я люблю тебя, — сказал он, и голос его был полон тем, что значило для него это слово.
— Ты так меня любишь, что готов использовать вампирские силы, чтобы привлечь меня в свои объятия.
Он перестал тянуть меня к себе и придвинулся, сократив и без того небольшую дистанцию, обнял меня. Минуту назад, обними он меня так, я бы сделала все, что он хочет. Но он опоздал. Он сейчас обнимал мое тело, а сердце оставалось холодным. Я много лет так жила: жар и холод, скорбь и ярость, таков был мой мир, пока Жан-Клод не нашел путь внутрь стен, что я сама построила.
Я в этот момент поняла, почему именно Жан-Клод, а не Ричард, обрушил эти стены. У Жан-Клода была собственная скорбь и собственная ярость. Он знал, что значит иметь все, что ты хочешь, жить в надежном и безопасном мире, и вдруг все утратить. Он верил когда-то в благость вселенной. Я потеряла эту веру в восемь лет, он же верил в слова вроде «благость» несколько веков.