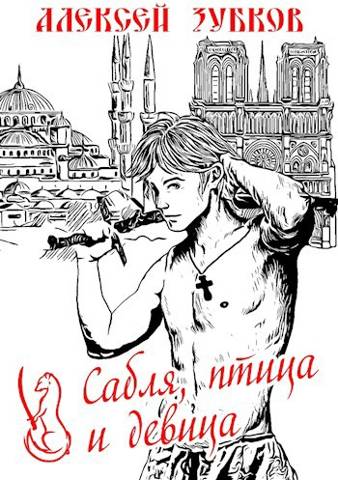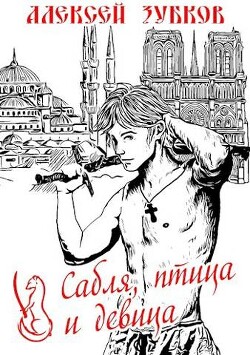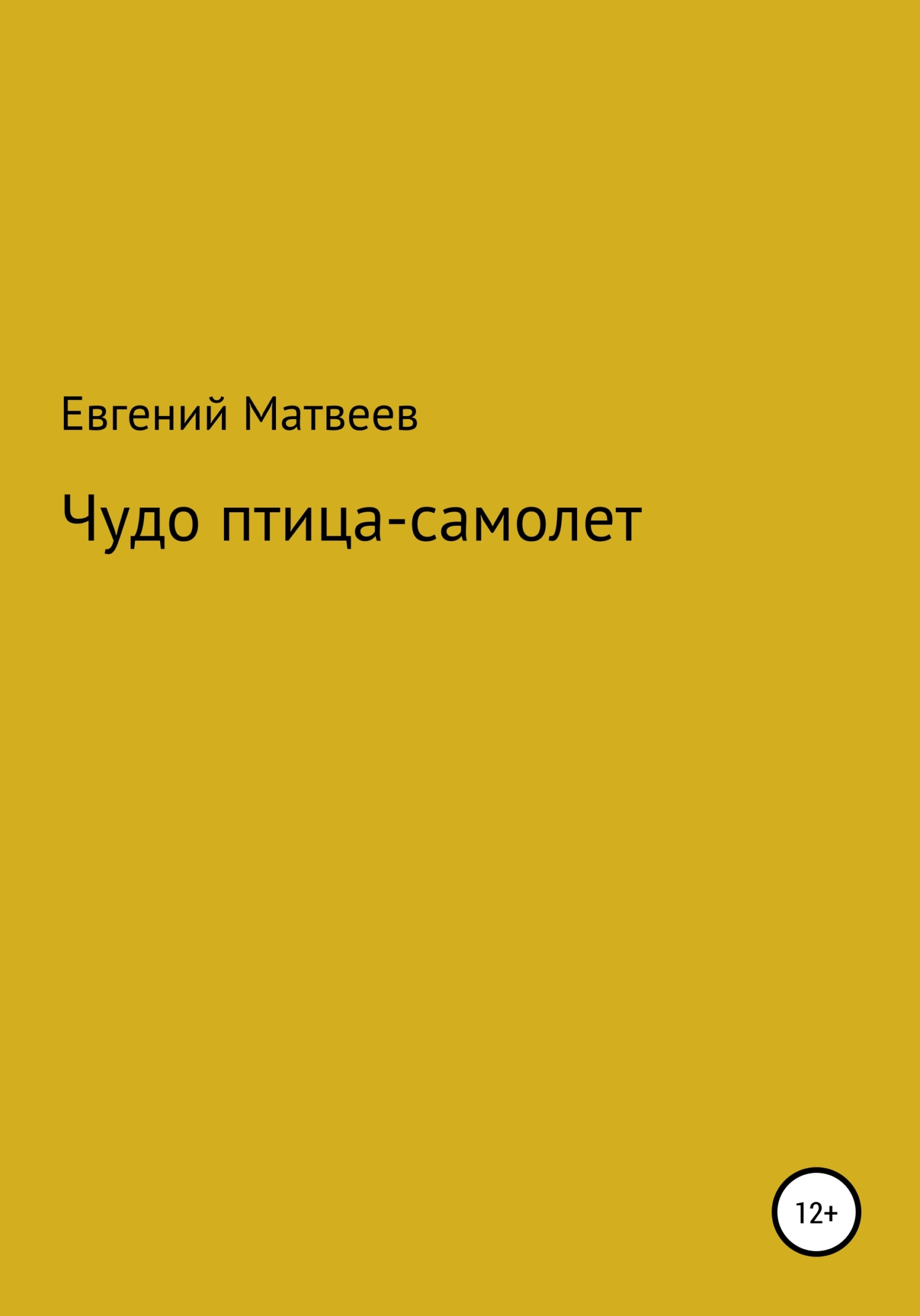остаться на ногах? И вообще, разве череп мнется? Он не должен ломаться, чтобы мозги наружу?
Ласка их нисколько не испугался, но первым обнажать клинок в гостях не хотел. Равно как и убегать. Он ничего не только плохого, а даже и предосудительного не сделал. Побежать — значит, дать себя заподозрить, показать, что за тобой есть какая-то вина.
Люциус вернулся злой.
— Ты зачем, негодник, среди бела дня в моем дому по сундукам шаришь? — строго спросил он лежавшего на полу Вольфа, к шее которого шляхтичи приставили две сабли.
— А ты, стало быть, мне зубы заговариваешь, пока меня грабят? — Люциус повернулся к Ласке.
Ласка замешкался и ничего не ответил.
— Бес попутал, — пожал плечами Вольф.
— Какой такой бес? — скептически и как-то с издевкой спросил Люциус.
— Да сам знаешь, какой. Тут в округе бесов не то, чтобы много.
— Вот я вас обоих и накажу. Нечего свои окаянные помыслы на беса сваливать! Бес, он напраслину не любит. Ой как не любит!
— Еще бы нас волновало, что там бес любит, что не любит, — сказал Ласка.
— Это ты только что говорил, что на Руси водку гонишь? — Чорторыльский повернулся к нему.
— Я.
— А знаешь, кто и зачем ее выдумал?
— Мы, православные, чертовых выдумок не боимся, — ответил Ласка по-батиному, — Крестим чарку да пьем во славу Господа.
— Вот за что не люблю вашу православную братию, так за то, что у вас в одной руке Богу свечка, а в другой черту кочерга.
— Зато нас Бог любит.
Люциус скривился.
— Вся ваша Московия только божьей милостью и существует. С запада Литва и Польша. С севера шведы и немцы. С остальных сторон татары. Князья друг с другом как кошки с собаками. Бояре чуть что готовы хоть в Литву, хоть к татарам отъехать.
— К татарам один всего предатель! — возмутился Ласка.
— Это пока один. На разведку. Первого Бельского прикормят, а там и остальная семья подтянется. Иван Федорович, говорят, в Боярской думе сейчас за старшего? С Бельскими считай половину Москвы хан к рукам приберет. Или не так? Или бояре за вашего малолетнего князя вступятся? Или за матушку его?
Ласка опустил глаза.
— Русского травить собаками, немца — медведем! — вынес приговор Чорторыльский.
— Так им, воришкам! — крикнул кто-то из душегубов.
Ласка схватился за саблю, но почему-то оступился и упал на ровном месте. На него налетели, сорвали пояс с ножнами и завернули руки за спину.
Похоже, панское правосудие не предполагало ни презумпции невиновности, ни права на защиту, ни прав на последнее слово или последнее желание. Про такое на Руси говорили, но Ласка не верил.
— Кшиштоф, что у тебя с головой? Подойди, — сказал Чорторыльский, оглядев свое войско.
Кшиштоф подошел, и пан Люциус выправил ему голову, потыкав в нее пальцами.
В поместье пана Люциуса имелась специальная яма, чтобы кого-нибудь кем-нибудь травить. Круглая, глубиной в человеческий рост. Стены выставлены заостренными сверху бревнами. Звери попадали в яму через два прохода с поднимающимися железными решетками, а людей сбрасывали сверху. Чаще там стравливали собак, реже медведей. Иногда волков, крестьян, военных пленных, воров и разбойников.
Для зрителей вокруг был устроен дощатый помост под навесом. Пока судья, приговоренные и все остальные шли к яме, слуги уже вытащили на помост тяжелый стол и лавки из дома и бегом-бегом ставили на него все новые блюда.
— С кого начнем, с русского? — спросил Люциус, — Атаман?
— С немца, а русского напоследок оставим, — не по-доброму улыбнулся Атаман.
— Кшиштоф?
— Как по мне, так немцы хуже московитов. Но не настаиваю.
— Анджей?
— Как пану угодно! — ответил Анджей, красавчик-блондин, — У меня к ним личных счетов нет.
— А Богдан нам что скажет?
Душегубы с улыбками расступились, оставив перед паном здоровенного парня чуть старше Ласки с иссиня-черными волосами, стриженными под горшок.
Богдан предсказуемо замялся.
— Був бы у пана татарин або жид, так я сказав бы, кого першого. Так ни того, ни иншого, ни навить правобережника немае, — Богдан почесал в затылке, — Хлопцы гутарять, з московитами вийна була, так давайте з московита почнемо. Ну як викуп за себе запропонуе?
— Кто о чем, а у Богдана одни деньги на уме, — сказал Анджей, — Ты еще бабу в счет выкупа попроси.
— Зовсим и не смишно. Баба в господарстви завжди стане в нагоди, — пожал плечами Богдан.
Люциус обвел глазами свое войско. Кого бы еще спросить?
— Не вели казнить, вели слово молвить! — попросил Вольф.
— Молви, вор, — усмехнулся Люциус.
— Знают ли шановные паны, что такое прецедент? — спросил Вольф, повернувшись к шляхтичам.
— Не-а, — ответил Богдан.
— Знаем! Знаем! — наперебой ответили остальные душегубы.
— До сих пор было принято шляхтичам меряться силами с медведями, а черный народ травить псами. Вы что, хотите, чтобы стало наоборот?
— Что в лоб, что по лбу! — ответил Анджей.
— Не-не-не, брат Анджей, — возразил более рассудительный Кшиштоф, — Псов-то в каждой усадьбе хватает, а медведей в домашних зверинцах на всю Польшу и пяти не наберется.
— Не позволям! — Анджей оценил ситуацию, — Русского к медведю, немца к псам!
— Не позволям! Вето! — закричала толпа, размахивая саблями, — Право имеем!
В самом деле, если сегодня разрешишь травить шляхтичей собаками, то завтра могут и тебя затравить. Другое дело, когда на тебя готовы собак спустить, а ты апеллируешь к шляхетским вольностям и требуешь медведя, которого у недругов почти гарантированно нет. Этак можно и до сабли доапеллироваться, а с саблей-то с Божьей помощью и отбиться можно, и погибать не стыдно.
Чорторыльскому предложение поменять приговоры не понравилось, но он вынужден был согласиться. Ласка попытался представить, кем надо быть, чтобы переорать шляхтичей и настоять на своем. Даже батя вряд ли смог бы. Вот, Атаман вроде главный, но он и пытаться не стал.
— Что, если этот тоже не шляхтич, как тот? — спросил Богдан.
— Если одолеет медведя, значит, не грех поверить, что шляхтич, — сказал Чорторыльский, — Не одолеет — сам виноват. Назвался груздем — полезай в кузов.
Поднялась правая решетка, и из нее на арену вышел медведь. Небольшой, но совершенно настоящий. Здоровый, быстрый и опасный.