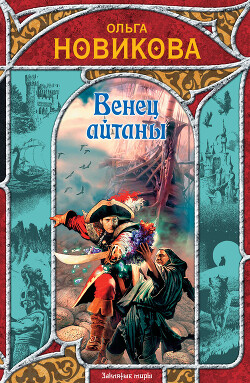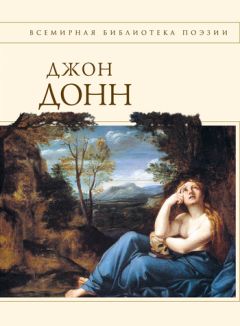Но Синг не стал задерживаться в гостиной (она же столовая), в которой обедали жена и сын.
– Это по делам, – отрывисто объяснил он и махнул Нолни рукой, приглашая пройти дальше. Итон молча последовал за ним, держась настороже. Но предатель даже не пытался защитить свою жизнь. Синг зашел в дальнюю комнату (кабинет, что ли, зачем-то попытался определить Нолни) и развернулся к гостю.
– Ну? – с вызовом спросил он.
– Это был ты? – Почему-то Итону было важно, чтобы тот признался сам. – Это ты выдал нас альгавийцам, Дин Синг?
– А если я скажу «нет», вы поверите? – усмехнулся Синг.
Итон молча смотрел на него, ожидая ответа.
– Да, я! – почти крикнул Синг, потом с беспокойством посмотрел на закрытую дверь, подошел, запер на замок.
– Почему?! – Итон сам не знал, зачем он задал этот вопрос. Синг недоуменно посмотрел на палача – чего же тот медлит, чего пристает с дурными вопросами? – но повинуясь тяжелому взгляду голубых глаз, начал рассказ. А Итон слушал сбивчивую речь и с ужасом понимал, что не сможет. Он убивал людей, но то было в схватке, то был честный поединок. А стать палачом, безжалостным, бездушным убийцей он не сможет. Неожиданно взгляд Нолни упал на рукоятку небрежно засунутой за шкаф сабли. Синг не сделал даже попытки ее достать.
– Защищайся! – прервал он предателя, указывая на оружие.
– Не буду! – яростно зашипел Синг. – Делай свое дело, Итон Нолни! Я заслужил смертный приговор!
Будто во сне, Нолни достал пистолет, наставил на предателя. Несколько бесконечно долгих мгновений он смотрел в побледневшее, но решительное лицо Синга.
– Мам, а папа сделает мне лодочку? – раздался где-то в доме звонкий детский голосок. Это стало последней каплей. Резко развернувшись, Итон почти бегом покинул дом предателя, улицу, поселок – не обращая внимания на то, что до сих пор судорожно сжимает в руке пистолет, пугая случайных прохожих.
Прибежавшая в кабинет Милли Синг нашла мужа живым, но совершенно невменяемым, беззвучно плачущим на холодном полу.
– Да что с тобой, младшой? – Дрогов попытался заглянуть брату в глаза. – Ты сам на себя не похож!
Поведение Кариена ставило его в тупик. Брат ходил чернее тучи, в глазах было мрачное беспокойство. Сначала Дрогов старался не обращать внимания на эти внезапные вспышки тревоги, когда Кариен неожиданно разукрашивал мачты своего корабля сигнальными флажками, осведомляясь, все ли в порядке на «Дельфине», когда «Рыбачка» вдруг сближалась с флагманом ради того лишь, чтобы братья обменялись несколькими пустыми фразами, когда во время повторной стоянки на Зеленом Горбе (им снова понадобилось пополнить запасы воды и продовольствия) старший из близнецов постоянно замечал хмурый, тяжелый взгляд, направленный на Лесси. Кейен видел, что его жена почему-то пришлась брату сильно не по душе. Тот не позволил ей даже приблизиться к себе, чтобы вылечить рану, хотя остальным корсарам девушке удалось помочь. Несколько раз Дрогов пытался вызвать Кариена на откровенность, но тот против обыкновения отмалчивался. Но когда младший из близнецов отказался явиться на флагман на военный совет, мотивируя это раной (увидев сигнальные флажки на «Рыбачке», Кейен задохнулся от изумления), терпение у старшего закончилось. Да что же это за нелепая неприязнь такая?!
Кариен мотнул головой.
– Нормально все. Дай ты мне отлежаться, Кен.
– Лесси могла бы… – увидев, как брат сморщился, Кен замолчал, потом резко спросил: – Да что ты против нее имеешь, Кари? И не отворачивайся, я же вижу! Чего темнишь, младшой?
– Зря ты с ней связался, старшой, – хмуро выдохнул Кариен. Кейен молча и требовательно смотрел на него, ожидая продолжения. Кариен твердо взглянул брату в глаза.
– Не пара она тебе, Кен. Пропадешь ты из-за этой проклятой ведьмы. Тысяча акул мне в глотку! Изломала всего, как затягивает тебя куда-то, а ты идешь молча и покорно, будто привязанный, уже сам на себя не похож стал, а все молчат и ничего не видят! – Кариен сорвался на крик. – Проклятие! Ну пропадешь же, пропадешь! И ее до добра не доведешь!
– А почему ты считаешь, что я этого не знаю, Кари? – глухо спросил Дрогов. Брат потрясенно уставился на него. – Почему ты думаешь, что Лесси этого не знает? Почему ты думаешь, что я не вижу, что только мешаю ей? Что она должна сделать что-то, и никак не может решиться, и не сделать тоже не может, а я держу ее и только зря мучаю? Что не будь меня, она не разрывалась бы так… Я не знаю, между чем, Кари, она не говорит, ничего не говорит, но я же вижу, как ей плохо!
– Зря ты с ней связался, – повторил Кариен.
– А что мне делать, младшой? Если я ее люблю? Если не нужна мне жизнь без нее, понимаешь ты – не-нуж-на! Если мне все равно – пусть пропаду, пусть, только бы с ней? Что мне делать, младшой, если все я понимаю, но жить без нее не могу? Если за одно ее «люблю» я душу готов продать? – Дрогов сжал голову руками. – В конце концов, она моя жена. И я буду с ней, буду, что бы ни случилось.
– Делаешь ошибку, старшой, – чужим голосом сказал Кариен.
– Может быть, – тяжело ответил Кейен. – Значит, судьба такая.
Братья еще немного посидели рядом, молча и хмуро, потом Кен поднялся и вышел из каюты. Кариен долго смотрел ему вслед, а затем со всей силы шарахнул кулаком о стену.
Дождь лил не переставая уже третий день. В серых небесах не было ни единого просвета. Волны тоже были свинцово-серые, такого же цвета, как и тяжелые тучи – и море, и небо плакали вместе с ней. Не обращая внимания на стекавшие по лицу, по плечам струи воды, Лесси стояла у самого борта «Дельфина» и смотрела на приближающийся Дундрут. Ну вот и все, печально думала она. Вот и все…
– Простынешь. – Кен подошел, обнял. Она отрицательно мотнула головой, заглянула в грустные темно-серые глаза капитана, затем прижалась к нему.
– Я люблю тебя. – Лесси повторяла эти слова, будто заклинание, цеплялась за них из последних сил, они стали ее единственной защитой. Серебряная отрава неумолимо проникала в нее, капля за каплей заполняя все ее существо. Сладостные, мучительные сны, напоенные совершенством пронзительных звенящих линий, магией застывших, бесконечно прекрасных мелодий, затягивали ее все глубже, манили, завораживали. Ей стало все трудней просыпаться. После таких снов она подолгу холодно, отчужденно смотрела на мужа и пугалась собственного безразличия. Она видела, что причиняет Дрогову боль, но тонкая серебряная паутинка делала все далеким и тусклым. Потом, отогревшись в его глазах, она захлебывалась в волне горького раскаяния, снова рвала свое и его сердце, говоря, что любит, любит, любит. Он верил и прощал – она знала, что он непременно поверит и простит, иначе ей не стоило жить.
Жива понимала, что правильнее было бы ей не смотреть в любимые глаза, правильнее было бы позволить серебряной паутинке оплести сердце прохладной сетью, не отвлекаться и не растрачивать и без того небогатые силы, которые холодное море неумолимо высасывало из нее. Правильнее было бы заранее честно сказать Кейену, что она не сможет не применить против шарритов оружие, которое судьба сама вложила ей в руки, что она должна будет сделать так, потому что она – Жива, и это сильнее ее.
Ведьма понимала, что выбора нет. И еще она понимала, что непременно попытается обмануть судьбу. Надежда – пока еще у нее оставалась надежда. А вдруг шаррит окажется слабее, чем она думает? А вдруг у нее получится справиться своими силами? А вдруг тонкая серебряная нить на ее запястье – лишь досадная случайность? Но тогда почему она вновь и вновь видит эти беспощадные серебряные сны?…
Только ступив на мостовую Дундрута – грязную, сырую, скользкую, – Лесси поняла, насколько ей не хватало Ор-Сите. «Айтаны прочно привязаны к земле, которая их родила – вспомнились черные строчки на пожелтевших страницах труда достоуважаемого Тромиса. – От этой земли айтаны, являющиеся по сути своей ее хранительницами, черпают силу и никогда надолго не покидают свою территорию».
Действительно, нельзя было ей надолго покидать ее землю, думала Лесси, впитывая хлынувшую к ней силу. Она чувствовала, с какой радостью приветствовали ее чахлые – но живые! – деревья, цветы и птицы. Даже солнце соизволило ненадолго выглянуть из-за туч, чтобы кинуть ей теплый лучик. Серебряное наваждение, владевшее ею последние дни, отступило, даже нить на запястье и та, казалось, поблекла, сделалась совершенно незаметной. «Я вернулась! – пело все ее существо – я вернулась!»