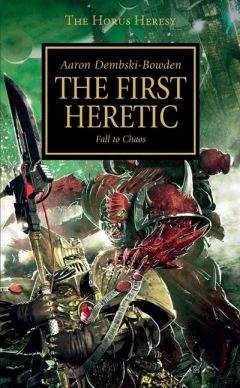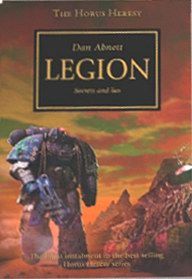Я спустился обратно по пустым лестницам, пробираясь мимо мусора и ящиков со снарядами. Оказавшись на уровне земли, я бесцельно пошел на север, совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку. В желудке было пусто, голова кружилась. Надо мной небо становилось все темнее, затененное собирающимися облаками, которые, казалось, были готовы разверзнуться. Дождь был желанным — он смоет всю грязь, чтобы кто-то другой смог начать все сначала.
Когда свет померк, а запах усилился, я сбился с пути. Конечно сбился. Все, что я делал, к чему прикасался, все казалось проклятым в этот день. Я попытался вернуться к транспорту и оказался в месте, которое выглядело еще более разрушенным, чем остальные. Ни один камень не лежал на своем месте. Земля представляла собой волнообразный морской пейзаж из обломков, некоторые из которых еще горели, и мои ботинки скользили и скребли, когда я пытался преодолеть волны.
Я уже почти добрался до дальнего берега, когда сильно поскользнулся и покатился вниз по длинному склону из обгоревшего камня, а потом рухнул в пыли. Протянув руку, чтобы устоять на месте, я уперся в что-то мягкое и податливое. Посмотрев вниз моему взору открылось тело, наполовину погребенное под обломками. Это был один из жителей города, солдат, облаченный в знакомые доспехи из темного металла, но со сбитым шлемом. В отличие от убитых, с которыми я столкнулся ранее, этот не получил катастрофических ранений. На самом деле, я вообще не видел никаких серьезных повреждений; бронепластины выглядели более или менее целыми. Однако, лицо мужчины было ужасным. Его кожа была бледной — белой, как испорченное молоко — и почти полупрозрачной. Под поверхностью виднелись сухожилия, увядшие и сухие. Его глаза выпирали из глазниц, щеки были втянуты и плотно прилегали к кости. Моя рука коснулась его открытого горла, и когда я одернул ее, отпечатки моих пальцев остались на нем.
Целое мгновение я смотрел на него. Я не мог понять, как умер этот человек. Какое-то химическое оружие? Возможно, хотя меня никто не предупреждал держаться подальше от воронок. Он напомнил мне старую видеокнигу, которую я когда-то смотрел, в ней паук высасывал из своей жертвы жизненные соки. Выражение на иссохшем лице выражало панику — статичный крик, который застыл навсегда.
Когда ко мне вернулась способность соображать, я оттолкнул тело и вскарабкался наверх. Мое тело трясло, когда я добрался до вершины. Тошнота вернулась с новой силой, и на этот раз я знал, что меня точно стошнит. Дрожащими пальцами я сумел расстегнуть шлем и вовремя откинул свой дыхательный аппарат. Затем я согнулся вдвое и опустился на грязную землю.
Закончив, я вытер рот, встал и попытался прийти в себя. Голова раскалывалась. Мне нужно было что-то выпить.
Впервые я дышал не отфильтрованным воздухом этого мира. Пыль и химикаты оказались едкими, и я снова нащупал свой дыхательный аппарат. Но прежде чем достать его, я почувствовал, как сильно здесь воняло: люди, десятки тысяч людей, гнили в затхлом воздухе, их невидящие глаза смотрели в небо, словно бы в поисках избавления, что было иронично, потому что именно оттуда и пришла их проблема.
Я напряженно моргнул. Сглотнул желчь. Попытавшись взять себя в руки, я начал идти, спотыкаясь. Здесь я был в безопасности. Тут не осталось ни врагов, ни угроз моей личности. Мне просто нужно выбраться отсюда.
Но все, что я мог видеть, спотыкаясь в поисках чего-то, что могло вытащить меня из этого места, — это лицо, впалое лицо, застывшие глаза и втянутые щеки. И я знал, что никогда не смогу забыть его, и что куда бы я ни пошел после, то все равно увижу его.
Я подошел слишком близко. Слишком близко. И я уже чувствовал, что теперь мне будет трудно выбраться обратно.
* * *
Когда Бел Сепатус нашел меня, он выглядел недовольным. Его очевидное мнение — что мы, летописцы, в лучшем случае отвлекаем их, а в худшем представляем опасность — только укрепилось, когда я отважился отправить в одиночку. Он вовсе не хотел искать меня, я был уверен в этом; у него и без этого хватало дел поважнее, и ему не терпелось заняться ими.
Но он все равно нашел меня. Я не помню, куда попал к тому времени, но помню спуск его челнока. Он опустил его практически на меня, как бы наказывая за то, что я вызвал у него головную боль.
К тому времени я знал о Бел Сепатусе гораздо больше. Я знал, что он чрезвычайно влиятелен, амбициозен и опасен. На этот раз он был облачен в терминаторскую броню, что делало его еще более несуразно громоздким, чем раньше. Когда космодесантник спустился за мной из челнока, от его тяжелых шагов по камню пошли трещины. Сам воздух шипел от избыточного жара, выделяемого реактором на его спине. Казалось невозможным, что в сердце этого нагромождения керамита находится человек, а не только машины, трубы, вентиляционный отверстия, поршни и двигатели. Возможно, именно поэтому эти люди так тщательно украшали каждый боевой костюм — чтобы напомнить себе, что, в каком-то едва заметном смысле, это все еще вещи, которые носят люди.
— Ты ранен? — спросил он.
— Просто осматриваюсь, — ответил я, покачав головой.
— Тебя могли убить.
— Я выполнял свою работу.
Он фыркнул, прекрасно выразив то, что думает по этому поводу. Затем он грубо схватил меня за руку и потащил к шаттлу. Космодесантник подтолкнул меня к трапу, а я был не настолько глуп, чтобы пытаться сопротивляться. Мы взлетели, и вскоре снова летели над городом.
— Значит, все прошло успешно, — предположил я.
— По воле примарха, — ответил он.
Я все еще не привык к тому, как они говорили о нем. Видера, да и остальные, были достаточно почтительны, но космодесантники выходили за рамки. Они не поклонялись — этого никто бы не стерпел — но и оно не казалось чем-то от него далеким. Еще поражало полное отсутствие сомнений. Я разговаривал с армейскими офицерами, которые явно презирали своих начальников, даже когда выполняли их приказы, но я сомневался, что Бел Сепатус мог даже помыслить о том, чтобы сомневаться в своем примархе. Связь власти была настолько мощной, настолько полной, что каждый отдельный воин мог рассматриваться как дополнение к единой воле своего повелителя. В конце концов, они все были связаны генетически и воспитаны в культуре полного и беспрекословного повиновения.
Я мог видеть в этом преимущества. Но даже тогда я думал, что вижу и недостатки.
— Вы сражались рядом с ним? — спросил я.
Бел Сепатус раздраженно хмыкнул, но все же ответил. Возможно, ему приказали помогать мне.
— Да, рядом с ним.
— И каково это?
Он не понимающе посмотрел на меня. С минуту он не отвечал. Я подумал, что, возможно, я обидел его, или что он как-то не понял, что я имел в виду. Когда Бел Сепатус заговорил, я получил более полный ответ, чем ожидал.
— Мне сказали, что у тебя есть какие-то способности к искусству, — начал он. — У тебя они должны быть, раз ты оказался на том месте, которое занимаешь. Ты ведь именно так и думаешь, не так ли? А теперь представь, что каждый раз, как ты берешь в руки перо, то оказываешь в присутствии величайшего писателя, который когда-либо жил. Творца настолько несравненного и безупречного, что все, что ты созидаешь, в сравнении с ним кажется тебе убогим и недостойным. И каждый раз, когда ты пытаешься подражать этому искусству, имитировать его, ты всегда оказываешься не на высоте, потому что лишь одна душа во всем творении может быть настолько совершенной. А затем представь, что ты не можешь скрыться от этого призвания, заняться чем-то другим, потому ты был создан, до последней молекулы, только для этой единственной цели. Ты оказался в ловушке, преследуя свою цель, зная, что ты потерпишь неудачу, и каждый раз, что бы ты ни делал, доказательства твоего недостатка будут всегда перед тобой. Но ты все равно преклоняешься перед мастерством. Более того — ты любишь его. И поэтому ты разрываешься. Чувствуешь стыд, потому что ты никогда не сможешь подняться на вершину. Обожание, потому что ты видишь его таким, какой он есть. Своего рода нереальность. Разрешенную магию.