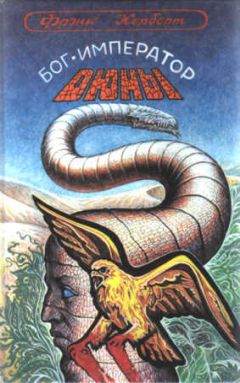— Молитва, как хубриз, — поддержал Хви Монео. — Молитва-требование.
— Но как он может быть Богом? — в отчаянии спросил Айдахо. — Он же сам признался, что смертен.
— По этому поводу я процитирую самого Бога Лето, — сказал Монео. — Я воплощение Бога в том, что доступно лицезрению человеком. Я слово, ставшее чудом. Я — это все мои предки. Разве это не достаточное чудо? Чего еще вы можете хотеть? Спросите себя, где вы найдете большее чудо?
— Пустые слова, — зло произнес Айдахо.
— Я тоже злился на него, — сказал Монео. — Я бросал ему в лицо его же слова из Устного Предания: «Дайте для вящей славы Божьей!»
Хви судорожно вздохнула.
— Он посмеялся надо мной, — сказал Монео. — Он смеялся и спрашивал, как я могу отдать то, что и без того принадлежит Богу?
— Ты был зол? — спросила Хви.
— О да. Он увидел это и сказал, что расскажет мне, как дать что-то во имя славы Божьей. Он сказал: «Ты можешь увидеть, что ты — в каждой своей части такое же чудо, как и я», — Монео повернулся и посмотрел в левое окно. — Боюсь, что мой гнев оглушил меня, и я оказался неподготовленным.
— О да, он умен, — пробормотал Айдахо.
— Умен? — Монео посмотрел на Дункана. — Я так не думаю, во всяком случае, речь идет не об обычном уме. Мне кажется, что в этом отношении Господь Лето не более умен, чем я.
— К чему ты оказался не готов? — спросила Хви.
— К риску, — ответил Монео.
— Но ты рисковал, проявляя гнев, — сказала она.
— Не так сильно, как он. Я вижу по твоим глазам, Хви, что ты понимаешь меня. Его тело продолжает вызывать у тебя протест?
— Уже нет, — ответила она.
Айдахо заскрипел зубами от отчаяния.
— Он внушает мне отвращение.
— Любимый, ты не должен говорить таких вещей, — произнесла Хви.
— А ты не должна называть его любимым, — поправил женщину Монео.
— Ты бы предпочел, чтобы она любила кого-нибудь более толстого и злобного, чем барон Харконнен! — выкрикнул Айдахо.
Монео пожевал губу, потом заговорил:
— Господь Лето рассказывал мне об этом злодее вашего времени, Дункан. Я не думаю, что ты понял своего врага.
— Он был жирным, отвратительным…
— Он был охотником за сенсациями, — перебил Дункана Монео. — Жир был только побочным эффектом, это было нечто вроде средства самоутверждения. Его вид оскорблял людей, а ему только этого и было надо. Он наслаждался, оскорбляя других.
— Барон поглотил лишь несколько планет, а Лето поглотил всю вселенную.
— Любимый, прошу тебя, перестань, — запротестовала Хви.
— Пусть говорит, — сказал Монео. — Когда я был молодым и невежественным, таким, как моя Сиона или этот бедный глупец, то тоже говорил подобные вещи.
— Именно поэтому ты позволил своей дочери пойти на смерть? — спросил Айдахо.
— Любимый, это жестоко? — сказала Хви.
— Дункан, одним из твоих недостатков является склонность к истерии, — сказал Монео. — Я предупреждаю тебя, что невежество произрастает пышным цветом на истерии. Твои гены делают тебя энергичным, и ты сможешь внушить истерию некоторым из Говорящих Рыб, но ты плохой руководитель.
— Не пытайся меня разозлить, — ответил Айдахо. — Я не нападу больше на тебя, но не заходи слишком далеко.
Хви попыталась взять его за руку, но он с силой вырвал ее.
— Я знаю свое место, — сказал Айдахо. — Я полезный последователь. Мое дело нести знамя Атрейдесов, на моей спине зеленые и черные цвета!
— Желание незаслуженного порождает истерию, — сказал Монео. — Искусство Атрейдесов состоит в умении править без истерии, умении брать на себя ответственность за использование власти.
Айдахо откинулся назад.
— Когда это ваш проклятый Бог-Император отвечал за свою власть?
Монео посмотрел на заваленный бумагами стол и ответил, не поднимая головы:
— Он отвечает за то, что сделал сам с собой, — Монео взглянул на Айдахо, глаза его были холодны, как лед. — У тебя просто не хватает духу, Дункан, узнать, почему он это сделал.
— У тебя хватает?
— Когда я был очень зол, он посмотрел на себя моими глазами и сказал: «Как ты осмеливаешься оскорбляться моим видом?», — Монео судорожно глотнул воздух. — Именно тогда я понял весь ужас того, что он видит. — Слезы потекли по щекам Монео. — Я был только рад. что не принял такого же решения, как он, а остался простым последователем.
— Я растрогала его, — прошептала Хви.
— Так ты поняла? — спросил у нее Монео.
— Даже не видя этого, я все поняла, — ответила она.
— Я едва не умер от этого, — произнес Монео тихим голосом. — Я… — Он содрогнулся и посмотрел на Айдахо. — Ты не должен…
— Будьте вы все прокляты! — крикнул Дункан, вскочил на ноги и ринулся вон из кабинета.
На лице Хви отразилась мука.
— О, Дункан, — прошептала она.
— Ты видишь, — спросил Монео. — Ты была не права. Ни ты, ни Говорящие Рыбы не смягчили его. Но ты, Хви, именно ты, приблизила время его уничтожения.
Хви обрушила всю свою муку на Монео.
— Я больше не буду встречаться с ним, — сказала она. Для Айдахо тот переход по коридору к квартире был самым трудным, из всего сохранившегося в его памяти. Ему представлялось, что его лицо — пластитовая маска, под которой он пытается спрятать бушующие внутри страсти. Никто из его гвардейцев не должен видеть его боли. Он не мог знать, что большинство из гвардейцев гадают о причине его расстройства и втайне сочувствуют ему. Все они знали Дунканов и научились хорошо читать по их лицам.
В коридоре возле самой квартиры Айдахо встретил Наилу, которая медленно брела ему навстречу. В лице женщины преобладали растерянность и чувство утраты. Это выражение остановило его, он на мгновение забыл о своих горестях и внутренней сосредоточенности.
— Друг! — окликнул он Наилу, когда их разделяли всего несколько шагов.
Она посмотрела на него, на ее квадратном лице отразилось узнавание, но не более того. Какая странная женщина, подумал он.
— Я больше не Друг, — ответила она и прошла мимо по коридору.
Айдахо резко повернулся на пятках и посмотрел в удаляющуюся спину — тяжелые плечи, вызывавшие ощущение чудовищных мышц.
Для чего вывели ее? — удивился он. Но это была преходящая мысль. Его собственные заботы навалились на него с еще большей силой. Он сделал еще несколько шагов и прошел в свои апартаменты. Оказавшись внутри, он с силой сжал кулаки. Я больше не связан ни с каким временем, подумал он. Странно, но эта мысль не принесла чувства освобождения. Он понимал, однако, что сделал то, что постепенно освободит Хви от любви к нему. Он был унижен. Она будет думать о нем лишь как о маленьком, задиристом дурачке, о субъекте, которому дороги лишь его собственные эмоции. Он перестанет быть предметом ее забот.