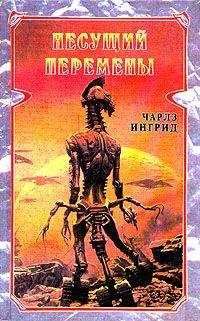Палатон придержал старика за плечи, и когда его дыхание выровнялось, он выпрямился.
– О чем вы говорите?
– Никто из нас, оставшихся здесь, – с трудом пробормотал старик, сжимая кулаки, как будто помогая своим словам, – не способен говорить. Только ты… – он сглотнул с тяжелым вздохом и закончил: – Разыщи пещеру, – и он прислонился к веранде, отирая пот и дрожа.
Палатон смутился. Глава общины махнул рукой, хрипло повторяя:
– Уходи! Уходи!
– Но вы…
– Неважно. Ты должен уйти. Большинство из нас, оставшихся здесь, способны убить, лишь бы сохранить свои тайны. Они еще не решили насчет тебя – но времени у тебя нет! – глава общины сел на ступеньку. – Прошу тебя, уходи.
Палатон обернулся. В конце улицы он заметил фигуру Баки, приближающуюся к дому. Старик недолго пробудет один.
– Спасибо, – произнес он и немедленно ушел, позволяя своим длинным ногам быстрее унести себя за пределы города. Он не оглядывался, чтобы проверить, преследуют ли его.
К тому времени, как он добрался до разрушенных стен древнего Мерлона, воздух похолодел и стал еще более разреженным. Он прислонился плечом к старому камню, ощущая его ледяной холод, и отдышался. Крепость была огромной и надежной, ибо что другое могло защитить от боевых кораблей? В те времена чоя обладали крепким бахдаром, обильным, хотя и не обязательно исключительно мощным. Чоя могли подниматься в воздух безо всяких аппаратов выше, чем на два фута, но, конечно, не умели преодолевать тридцатифутовые стены. Они могли высекать огонь из пальцев, но не достаточно жаркий, чтобы разрушить камень. Чоя умели телепортироваться, но недостаточно хорошо, чтобы знать наверняка, что окажутся внутри крепости, а не в ее стене – это грозило медленной и мучительной смертью. И потому Мерлон простоял века – несмотря на бахдар.
Палатону стало жарко в куртке, ее захотелось снять, но он понимал, что сразу замерзнет под пронзительным ветром. Он отошел от стены и начал обходить крепость, разыскивая ворота. Он обнаружил тропу, проложенную горными козами, узкую и крутую, и пошел по ней. Вскоре он оказался над Мерлоном и смог взглянуть внутрь крепости, поверженной скорее коварством, нежели силой.
Палатон невольно вздрогнул. Дар Огненного дома – подавлять волю и обладать. Схватывать чужие мысли настолько крепко, чтобы обратить их в свою пользу. От понимания этого Палатона замутило. И он знал чоя, способных приказывать, подчинять, принуждать, но настоящее обладание было невозможным и вызывало отвращение. Неужели это и есть его наследственность? Неудивительно, что мать не смогла поведать о ней – даже если бы имела возможность.
Его мать никогда не говорила о том, кем был ее любовник – и не потому, что не хотела, а потому, что он не оставил ей выбора. Она словно попала в паутину, стягивающуюся от судорожных движений пленницы. Вероятно, ее лишили! памяти. Он вздрогнул, подумав о деяниях более преступных, чем вторжение в чужую душу.
Палатон замедлил шаг, достигнув границы вечных снегов и ощущая их физическое присутствие. Земля распространяла холод, снега застилали тропинку. Он не мог подняться выше без горного снаряжения, к тому же горы не были его стихией. Он рожден пилотом, а не альпинистом. Он уже повернулся, но тут заметил сизую расщелину в буром камне и понял, что нашел пещеру.
Солнечная батарея вспыхнула, едва он ступил внутрь, ее панель была обращена к входу в пещеру, но почти не улавливала высоко поднявшееся солнце. Панель была искусно настроена, ибо посылала несильный, желтый луч света, создавая причудливое освещение. Однако этого света было достаточно, чтобы он смог разглядеть пустые мольберты и коробки с красками, широкую лежанку в углу, накрытую серебристым покрывалом, напоминающим паучью сеть. Палатон подошел к лежанке – это было ложе любовников, а в изголовье его валялась малиново-лиловая шаль. Палатон поднял ее. Даже спустя десятилетия шаль испускала ощутимый аромат тара.
Этот аромат был острым, сухим, он никогда не входил в моду, тем более в нынешние времена, но его мать всю жизнь пользовалась только этим ароматом – постоянно, день за днем. Чувствуя, что у него перехватило горло, Палатон прижал шаль к груди.
Повернувшись, еще не в силах ровно дышать, он увидел освещенный направленным лучом мольберт, обращенный к двери, с натянутым на него холстом. Палатон подошел к нему и застыл, зная, что наконец-то нашел хоть некоторые ответы, ибо художник не только оставил свою подпись, но и указал место, куда отбыл.
Даже если бы Палатон не бывал в тех местах, если бы не перенес мучительное сгорание и не отправился за исцелением, если бы не нашел Рэнда, если бы не повидал школу Братьев – даже в этом случае он понял бы, что на картине изображена не Чо. Аризар был слишком примитивным в своей красоте, слишком молодым и угловатым, его геологические процессы были еще слишком сильными, угрожающими и явными.
Художник, написавший эту картину, знал, что только тот, кто видел эти горы, леса и равнины, сможет узнать их и устремиться к ним – и, конечно, это не может быть враг.
Неужели он оставил картину для сына?
Палатон протянул руку и коснулся холста. Не вполне законченное, это полотно было все же подписано. Аэлиар. Это имя было ему незнакомо, но Палатон поклялся не забывать его. Он должен вернуться на Аризар и начать поиски заново.
Поворачиваясь, он задел носком сапога мольберт и уронил его. Откуда-то сбоку выпал футляр, поврежденный перепадами температур и давления, но листы внутри него сохранились. Дрожащими руками Палатон вынул их.
Это оказалось генеалогическое древо. С одной стороны он видел болезненное восстановление рода – с первого уничтожения, когда Огненный дом подвергся геноциду, до нынешних дней. На другой стороне он узнал собственную родословную, в которой каждая ветвь обладала мощнейшими талантами и он, потомок этих ветвей, мог прочесть свои свойства: чтение мыслей на расстоянии, ясновидение, телепортация, лечение на расстоянии, подчинение чужой воли.
Он был рожден чудовищем.
Снаружи прозвучал выстрел – резкий, громкий, далеко разносящийся в чистом воздухе. Палатон отскочил, не зная, целился ли неизвестный в него. Земля под его ногами затряслась, с потолка посыпалась пыль, и вся скала пробудилась с оглушительным ревом. Начался обвал, и первая же его лавина, несшаяся мимо входа в пещеру, опрокинула солнечную панель, погружая пещеру в темноту, подобную мраку могилы.
Когда Рэнду удалось открыть веки, которые, казалось, были намертво склеены, он увидел, что Чирек сидит рядом на табуретке, положив подбородок на руку и глядя в окно. Священник уже выходил из дома: от него пахло тропическим воздухом и пакетом. Рэнд с трудом сел, чувствуя неизвестно откуда взявшуюся боль в костях, не говоря уже о мышцах, он решил, что Чирек плачет.