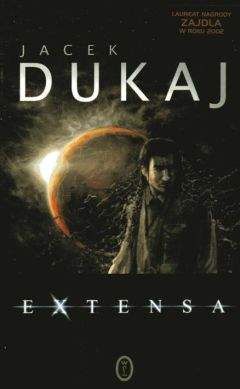Один был даже слишком хорошим: нужно было вернуть Малинового. Через две недели после Перверсии я отправился с ним в имение Бартоломея: путешествие как раз на день в одну сторону и еще день на возвращение. Добравшись на место к вечеру, я застал старика спящего в гамаке в саду. Когда он пришел в себя, то, казалось, был доволен моим визитом, если я сумел правильно прочитать его настроение через завесу ироничных сентенций и уж слишком широких улыбок. У него было очень выразительное лицо, и он заведовал его гримасами совершенно сознательно. Общаясь с подобными людьми, мы невольно становимся гурманами Формы, криптологами вроде бы случайных поведений, режиссерами вздохов и подмигиваний — и вот уже из задней части головы у меня начал расти маленький Наблюдатель, неутомимый суфлер и критик. — Что-то подозрительно резкие эти вечерние заморозки. — Не хуже, чем в последней декаде, насколько слышал», — отвечаю я, а это «насколько слышал» выговаривается в спадающей каденции, на долгом выдохе, с соответственным наклоном головы.
После ужина, каким-то образом мы пришли на террасу, к телескопу. Бартоломей курил трубку, опершись правым плечом о массивную конструкцию. Новая Луна, темная ночь, алый жар в чубуке… Он указывал им отдельные звезды и созвездия, называя по очереди. Хозяин не был пьян, я тоже. Голос у него был теперь глубоким, сильным, достойным проповедника. Я присел на стуле. Шея все время болела от поворотов головы вслед за рукой и трубкой Бартоломея.
Он прервался, чтобы ответить на мои вопросы.
— Наука? А какой же это наукой можно заниматься? Ну чего бы такого я мог открыть? До каких еще не познанных истин дойти? А даже если и так, было бы это разумно по существу? Не думаю, чтобы консенсус по данной проблеме как-то изменился.
Я рассказал ему про крикунов с Торга.
— Ну, сам же видишь. Тебя не должны обманывать язык и намерения, с которыми были написаны книжки, которыми, не сомневаюсь, ты зачитываешься. Да, это правда, что я сохраняю какую-то частицу знаний и культивирую привычки, рожденные способами его добычи — приблизительно на том же принципе, согласно которому кухарки сохраняют память о традиционных кулинарных рецептах и культивируют кухонные суеверия. Но я не обладаю даже той, свойственной им, иллюзии полезности. Это память об определенном стиле жизни… об определенной модели человечества.
Неужели же не осталось никаких вопросов? Никаких абсолютных тайн?
— Оох, понятное дело, что они имеются. Взять хотя бы загадку Темной Материи, огромных масс неизвестного характера, существование которых следует только лишь из уравнений плотности вселенной, поскольку «увидеть» эту материю невозможно. Согласно последним официальным оценкам, записи о которых сохранились, все еще не хватает двадцать процентов массы, и это несмотря на значительное прибавление в весе некоторых элементарных частиц, опять же, пересмотр постоянной Хаббла. Но ответы на эти вопросы лежат полностью за пределами наших возможностей. Тогда, что же я могу тебе предложить? Только звездные ночи и красивую традицию, и это чувство дополненности, удовлетворения знаниями ради самих знаний.
Он протянул мне руку, я же поднялся и пожал ее с легким поклоном. Когда же Наблюдатель позволил мне улыбнуться (щепотка иронии, пара щепоток радости), Мастер Бартоломей снова глядел на звезды.
Что является началом подобного чувства? Не ревность ли, случаем? Какая-то непонятная тоска при виде чужих детей? Мучительное представление — поначалу призываемое со снисходительной усмешкой — представление самого себя в качестве отца? Понятное дело, еще и удовлетворение — владением, а скорее — принадлежностью. Естественно, еще и генные механизмы, гораздо более сильные у женщин. И, конечно же, еще и страх перед смертью.
Но в тот миг мною овладел другой страх, ужас, что я не смогу — и чувство вины по причине мошенничества, которого не допускал. Мошенничество явилось мне несомненным, когда я принимал из мокрых рук тетки Иоанны красное тельце Сусанны. Я беззастенчиво изображал кого-то, играл роль того, кем я не был; и в любой момент обман мог отомстить мне, я уже предчувствовал, как меня раскрывают и наказывают. Тем временем, дочка начала в моих руках свой первый плач. Двадцать два года — я перестал принадлежать себе, менялась точка отсчета, мое представление о себе, даже способ мышления — в тот самый момент, когда миниатюрные пальчики вцепились в рукав моей рубашки.
— Ты выглядишь так, словно бы привидение увидел, — буркнула Сйянна, поднимаясь на постели, еще с гримасой боли на лице.
— Они вечно так! — засмеялась тетка. Ее сестра-близняшка раскрывала окна, впуская в спальню воздух осеннего дня. Окна этом крыле усадьбы выходили в сад, от любого ветерка шумел и шелестел миллион листьев.
Скрипнула дверь, Бартоломей сунул голову вовнутрь.
— Девочка, — сообщила ему тетка.
— Может, лучше посадите его, пока он не сомлел, — посоветовал старик, внимательно поглядев на меня через очки.
Я отдал Сусанну Сйянне. Она перехватила мой взгляд. Я тоже глядел уже на кого-то иного — уже не на ту худощавую девчонку с манерами ковбоя и дерзкой улыбкой.
* * *
Апельсины. Это был мой пятый или шестой визит к Мастеру Бартоломею, несколько месяцев после Ночи Перверсии; в имении я оставался уже дольше, до недели. Тем утром я сидел в патио и чистил апельсины, их запах пропитывал воздух, почти что окрашивая свет. Сйянна только что приехала, так что в патио она появилась еще в сапогах и куртке для верховой езды, вся забрызганная грязью; волосы со лба отводила тыльной стороной ладони. Она сразу же почувствовала запах. — Уммм, да будут благословенны кормящие жаждающих, — заурчала она, наклоняясь над столом. Сложив руки за спиной, она схватила четвертушку плода одними губами. — Ну и что? — сразу же окрысилась она, глянув на меня. Я ничего не ответил, только выбрал дольку и поднес ей ко рту. Две, три секунды она еще колебалась с наполовину раскрытыми губами, чтобы вдруг дернуть головой и вот — словно в тех фокусах, которыми забавлял детей дедушка Морис — моя ладонь уже была пуста. Сйянна по-птичьи наклонила голову, все еще склонившись над столом, с шельмовской улыбочкой, после чего облизала губы: кончик языка появился и исчез, влажно-красное мгновение, от которого мне перехватило дыхание. — И что? — повторила она. Я выбрал следующую четвертушку.
Гребень, щетка, золотые волосы. Она и так носила их довольно длинные, а потом вообще перестала подрезать. Те начали стекать ей на спину, до лопаток и ниже. Иногда я видел ее вечером, энергично расчесывающей их; это бывало редко, как правило, она делала это у себя в комнате. Впрочем, у дяди она ночевала не часто: два, три раза в месяц привозила ему вещи от семьи, иногда на повозке — тогда оставалась подольше. Могло показаться, что, в связи с этим, наши одновременные визиты должны были бы стать статистически невероятными — только все складывалось как-то по-другому. И так вот, выйдя одной грозовой ночью из картографической комнаты, после нескольких часов, проведенных над негативными изображениями неба, я увидал ее в салоне, до кончика носа закутавшуюся в один из великанских халатов Бартоломея, задумчиво расчесывающую волосы. Перекинув их на левое плечо, правым глазом она косила в окно, в ночь дождя и молний, и не заметила меня, даже когда я присел рядом на диване. В воздухе висела рохладная сырость. Горела только одна керосиновая лампа, электричество на время грозы выключали; так что каждый предмет обладал своей светлой и темной стороной, которые были разделены мягким, вибрирующим терминатором[4] (я еще не до конца вернулся из космоса). Это освещение, ритмичное движение ее руки и отзвуки дождя… а я устал и прикорнул на месте. Ненадолго: щетка выпала у нее из руки, этот стук меня и разбудил, поднял я ее совершенно инстинктивно. Сйянна перехватила меня взглядом в половине движения. Нужно было что-то сделать — рука помнила навыки детства с Ларисой, я же был слишком рассеян, чтобы удержать себя, посему разрешил собственной руке протянуться к голове Сйянны, провести щеткой по волосам. В первый момент она отшатнулась, но я повторил: раз, второй и третий, к четвертому разу она уже подставляла голову под соответствующим углом к щетке, невольно слегка напирая на нее. К этому времени, Наблюдатель, располагающийся в задней части моего черепа, уже полностью проснулся. Под его чутким взором я ни за какие коврижки не инициировал бы этот ритуал, даже не поднял бы щетку; но теперь уже не был в состоянии его прервать. Я контролировал каждое свое мельчайшее движение, дыхание и положение на диване, а так же расстояние между нами; регистрировал каждую картину до последней детальки: ретушированный мерцающим светом, единственный видимый фрагмент ее щеки был континентом неведомой планеты; запутавшиеся в халате пальцы — неожиданно подсмотренными метеорными потоками, тень ее плеча — отдаленной туманностью; глаз, подглядывающий сквозь завесу волос — краткой вспышкой суперновой. Впоследствии я изучал все эти явления с ленивой увлеченностью. — Считаешь? — заурчала девушка. — Сто и сто. — Ты считай. — Хмм, ты словно тренируешься. — У меня есть сестра. — Ааа… — Блеснула молния, загрохотало, но никто из нас даже не вздрогнул. Второй рукой я захватывал ее волосы у шеи, при каждом движении щетки они казались мне более мягкими, более блестящими. Иногда палец перемещался по коже самой шеи, она была теплой, кровь пульсировала в артерии над ключицей. (С тех пор она уже всегда приходила причесываться в салон, и когда я ее там заставал, отдавала мне щетку и поворачивалась ко мне спиной, откидывая голову. Но об этой привычке между нами не прозвучало ни единого слова). Потом я вернулся к картам.