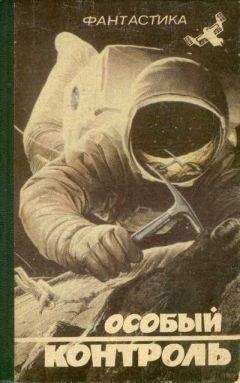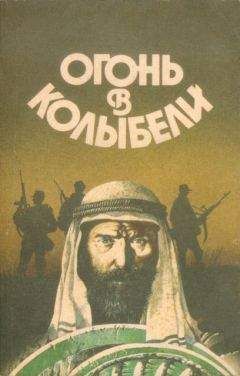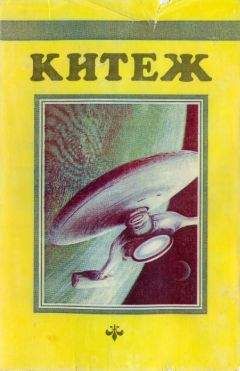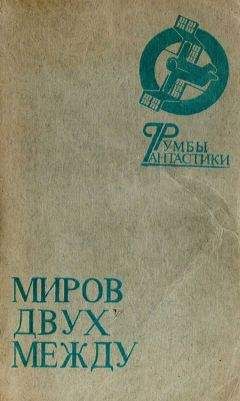— Нет же, — Осинецкий остановился и посмотрел в глаза, — да поймите, это важно: нети не можетбыть таких условий, чтобы человеку выгодно было становиться добрым… Иллюзия. Наоборот надо: переделать человека, вложить ему в душу любовь к ближнему, чувство справедливости, умеренности в воздаяниях благ земных — и только тогда станет возможным ваше общественное устройство, опрощающее идеалы христианства, но не искажающее их.
— И как же прикажете “переделывать”? — поинтересовался Василий Андреевич.
— Терпением. И словом Христовым — неизменным перстом указующим во всех бедах и сомнениях бытия.
— Кто же вам не давал это сделать тысячу девятьсот с чем-то лет? Незачем ждать. Человек будет таким, каким его сформирует реальность. Нужны и слова, и разъяснения и, если угодно, наказания, но не самотеком, а направленно. Вы говорите, условия уже созданы? Да мы только начинаем их создавать! И то, что я считаю необходимым вмешаться если не в принципе, то в процедуре, — тоже, если хотите, “условия”, для ряда заинтересованных лиц.
Осинецкий подошел к своей лесенке и спустился на несколько ступеней вглубь. Василий подумал, что старик так и уйдет, не в состоянии продолжить спор. Но Граф обернулся:
— Вы полагаете, что можно переделать людей, обращаясь по сути только к их разуму. Вот — главная ваша ошибка. Невозможно, невозможно это. Только — через сердце, только — через любовь и страх, и боль, и сострадание можно изменить что-либо в человеке.
Василий Андреевич помедлил и спросил:
— Скажите, вы в сорок первом встали к операционному столу исключительно по велению сердца?
— Несомненно. Раненые страдали превыше всякой меры. И я мог облегчить страдания…
— А почему же после войны вернулись на амвон? По зову ли сердца? Разве мало оставалось калек, больных да и раненых тоже?
— Я стал нужнее как врачеватель душ.
— А кто это сказал? Нет, Владислав Феликсович, оба ваших поступка продиктованы разумом, отчасти — совестью, которая тоже разум, и пониманием долга — тоже разумом.
— Вы слишком широко трактуете разум.
— Зато вы — слишком узко. Поэтому не смогли и не сможете никогда преобразовать человека, что не верите в его разум. Все стараетесь обойти, подменить высшие проявления духа… Не допускать до них, ограничивая сводом непроверяемых догматов. Стараетесь, чтобы “чувствовал всею душою”, потому что на разум не можете рассчитывать: но рано или поздно любой догмат опровергнет…
Осинецкий медленно покачал головой. Наступившая пауза показалась Василию огромной. Он уже пожалел, что поддержал этот спор и заставил старика лишние минуты провести на поверхности.
И тут Граф заговорил:
— Мы, церковь, “создавали условия” и спасали души, великое множество, когда о вашей рациональной организации никто и помыслить не мог. Христос указал путь спасения или, если вам так удобнее, преобразования личности независимо от каких бы то ни было социально-исторических обстоятельств.
— Указать-то указал, а что вышло? — просто спросил Василий Андреевич. — И не надо перечислять христианских подвижников и мучеников. Ни их существование, ни число ничего не доказывают. Фанатизм возможен не только в правом деле. Возможно, даже наоборот.
— Вы несправедливы.
— Ой ли? — холодно поинтересовался комиссар и продолжил: — На самом деле вы — не спасали. Вы — обманывали, вы заменяли жестокие правды маленькими надеждами. А разве можно научить правдивости обманом? Разве можно воспитывать духовные силы, обращаясь к слабостям? Давать вместо честных ответов ваше закостеневшее утешение?
Чуть помедлив, Осинецкий ответил:
— А другого и не может, в сущности, быть. Человек никогда не смирится с тем, что ему положен предел. Что, вынеся непомерные страдания на земле, он не получит никакого справедливого воздаяния.
— Но ведь это действительно так… И сильные должны это понимать.
— Вот здесь вы ошибаетесь, уважаемый Василий Андреевич, глубоко ошибаетесь. Верить в бесконечность индивидуального бытия, в справедливость воздаяния — это и означает получать жизнь вечную, получать справедливое воздаяние. И это не только для возвышенных умов и сильных духом, а для всех.
— А зачем? — спросил Василий. — Лично мне такое ни к чему. И не одному миллиону…
— Большие числа пока что не в вашу пользу, — мягко возразил собеседник, — особенно если учесть всех тех, кто заменил крест красным бантиком, ровно ничего больше не заменив в душе. Человеку нужен масштаб, соизмеримый с ним самим… И в наше время, и сейчас великое множество людей ищут, пытаются нащупать некое промежуточное звено между целями и идеалами общими и бытием своим личным…
— Естественно, — согласился Василий.
— И в самом деле естественно. Оправдано диалектикой бытия. Посмотрите: есть частное — личность; есть общее — идеалы; следовательно, нужно нечто посредине, особенное.
— И это, конечно же, идея Бога и братской любви во Христе. Было. И не помогло. И не нужно.
— А что нужно?
— Трудно с вами спорить. Вот уже получилось, будто я признал необходимость чего-то третьего. А ведь нет, не считал я так, Владислав Феликсович, и не считаю. Ничего больше не требуется, только надо посерьезнее вдумываться в то, что наметили, и в то, что есть, и находить, что забыли, что напутали, а что попросту устарело. Ну а если кому-то нужно “особенное”, да еще если он сумеет его для себя выстроить, не припутывая боженьку — или что там еще из потустороннего сейчас в моде, — так пожалуйста, с дорогою душою. Какие возражения!
— А зачем выдумывать, искать иное, если все уже найдено, веками выстрадано, выверено?
Белов в сердцах отбросил гильзу:
— Не понимаю я вас. Сознательно служить лжи…
Не нравилась ему концовка разговора. Не нравилась — и все тут. Едва ли не впервые Василий Андреевич сталкивался с душой намного более сложной, чем его собственная, — а ведь комиссар был не прост, очень не прост, и не один десяток врагов в свое время просчитались в нем… Сейчас никак не удавалось “примерить на себя” партнера, и это сбивало и злило.
— Реальное положение… — вздохнул Граф. — Реальное положение намного тоньше и диалектичнее, чем короткое слово “ложь”. Мне хотелось бы верить, что мы еще вернемся к этому разговору.
— Хорошо, — пообещал Василий, — вернемся. И вы сами убедитесь к тому времени, на что способны человеческий разум и совесть.
Осторожно переступая, Осинецкий сошел еще на несколько ступенек вглубь.
Затем, прикрыв “козырьком “ ладони глаза, посмотрел на лютеранский сектор, туда, куда Василию Андреевичу совсем не хотелось поворачиваться.