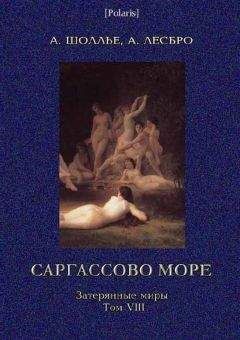Мысль о побеге куда-то исчезла… Внезапно я вздрогнул: чья-то рука легла мне на плечо. Рядом со мной стоял старец Хрисанф; это был человек среднего роста с безбородым лицом. Его тело было изящно и стройно и только кожа оттенка слоновой кости и почти полное отсутствие волос указывали на его преклонный возраст. Что меня особенно поразило, так это замечательная глубина его глаз, глядевших из-под полумрака, образованного дугой бровей, и отливавших золотистыми искрами зрачков.
Его проницательный взгляд был долго устремлен на меня.
— Чужестранец, — спросил он, — как ты пришел сюда?
— О, старец, — сказал я с укором, — не без причины бежал я из пещеры, в которую вы меня положили. Не забыл ли твой народ святые законы гостеприимства до такой степени, что пытался заколоть того, кого судьба доверила его заботам? И я бежал из опасения, что возобновятся преступные попытки умертвить меня.
— Ты не прав, предполагая, что мы питали против тебя дурные намерения, — возразил Хрисанф, — бог указал нам, что ты не предназначен для жертвоприношения на его алтаре. Перестань же бояться.
Я с удивлением взглянул на него; старец продолжал:
— В этом сокрыта странная тайна, которую я хочу попытаться разъяснить тебе; до сих пор люди, попадавшие извне на берег Аполлонии, оказывались безобразными и грубыми варварами. Это заставило нас думать, что на всей остальной земле культура неизмеримо ниже нашей и население состоит из существ, могущих возбудить к себе лишь чувства презрения и отвращения.
Я вспомнил, что то же самое говорила мне в гроте Тозе. Может ли быть, чтобы аполлонийцы не имели никакого представления о современном мире?
Хрисанф прислонился к корявому стволу финиковой пальмы и, протянув ко мне руку, с недоумевающим видом продолжал:
— Да! Даже их язык груб и негармоничен, их тела тяжеловесны, неуклюжи, некрасивы, как у бессмысленных быков, которых, по словам нашего Гомера, закалывали мы, как жертву на алтаре Аполлона; но во всем твоем существе, чужестранец, разлиты красота и изящество, каким могут позавидовать боги; твой взгляд подобен небесной лазури, в твоих зрачках светится огонь благородного ума, и в довершение всего мы были поражены тем, что твои уста неожиданно пролепетали бессмертные слова, которые в старину пленяли наших отцов, и благоговейная память о которых сохранится и в нашем поколении; ты говоришь на нашем языке, как будто ты один из нас. Кто обучил тебя песням божественного Эсхила? Каким образом научился ты языку наших предков?
— Старец, я смущен речью, с которой ты только что обратился ко мне; не думаешь ли ты, что все обитатели неведомого тебе мира подобны тем немногим пострадавшим от кораблекрушения людям, которых ты встречал до сих пор? Есть на земле люди, которые и теперь страстно преклоняются перед культом прекрасного; конечно, их немного, но они существуют, и я один из них; ты только что говорил о Гомере и Эсхиле, ты присваиваешь твоему племени право древних греков; знай же, что и другие люди, хотя и непохожие на вас, страстно любят, как ты, величие афинян, жаждут называться детьми древней Эллады, погружены в изучение текстов, памятников и статуй. Они мало-помалу восстановили облик греческой души, научились говорить на мелодичном языке автора Прометея и мыслить вместе с создателями Федона. Старец, я тоже принадлежу к ним; но я не думал, что настанет день, когда мой горячий культ античной красоты остановит нависший над моей головой смертельный удар. Я не подозревал, что существует еще народ, сохранивший неприкосновенным гармоничный язык, на котором говорили герои троянской войны. Позволь мне, старец, в свою очередь спросить тебя, как случилось, что на острове, затерянном в Атлантическом океане, на баснословном расстоянии от Архипелага, живет народ, который, по-видимому, проникнут чистыми эллинскими традициями?
Хрисанф изумленно посмотрел на меня.
— К чему, — сказал он, — разыскивать в книгах язык и историю Афин? Очевидно, мы не ошиблись, полагая, что только мы одни сохранили яркий светоч наиболее прекрасной цивилизации. До какой степени падения дошли люди твоей расы! Каковы же тогда их занятия? Каков идеал тех, которые пренебрегли творениями человеческого ума наиболее прекрасного, великого и благородного?
— Ты прав, старец, люди моей расы утратили интерес к достижениям высшей красоты; страсть к роскоши, увлечение наслаждениями, жажда увеличить благосостояние — все это пленило их; сверх этого они ничего не видят; ты хочешь знать, откуда я пришел, куда уйду, — для тебя это не имеет значения! Ты ничего не поймешь, если я скажу, что мое отечество называется Францией, что я хотел попасть в Америку, а вместо того судьба привела меня на берег Аполлонии.
Хрисанф покачал головой с видом равнодушия:
— Ты прав, чужестранец, — сказал он, — мы уже предугадали то, что ты сказал о своей стране, и для нас не интересны причины, приведшие тебя сюда. Никто и никогда не мог покинуть Аполлонии для другой страны. И не следует ли считать делом руки бога, нам покровительствующего, это поле трав, скопившихся вокруг нас, чтобы заставить нас отказаться от желания увидеть страны с чужой культурой, а также, чтобы предохранить нас от вторжения варваров из другого мира?
Старец выпрямился, и мы пошли вдвоем среди благоухающего лабиринта пальмовой рощи. Через просветы в сводах, образованных деревьями, видно было ярко-голубое небо и солнце, роняющее золотистые блики на изумрудную траву. Мы спустились вдоль ручья, который пересекал маленькое озеро и бежал дальше к морю.
— Смотри, — продолжал Хрисанф, — на сияющее величие окружающей нас природы. Желание покинуть остров, так чудно расположенный, не является ли неблагодарностью, даже если бы это желание можно было осуществить? Но ненасытный ум, который таится в глубине каждого человека, мог бы в нас возбудить желание познать другие небеса, величие других горизонтов, свежесть других дубрав. Я воздаю благодарность божеству, которое ограничило наши вожделения этим незначительным пространством нашего острова, где мы будем счастливы, если нам нельзя будет и мечтать о чем-нибудь ином.
— Но в таком случае, старец, скажи, когда и каким образом пришли сюда твои предки?
— Я знаю, — ответил Хрисанф, — только то, что говорит об этом наше предание. Было некогда время, когда древняя Эллада увидела, как некоторые из ее наиболее смелых детей отправились основать колонию в стране, называемой Тринакрией; наши предки тоже принадлежали к таким выходцам. Однажды они отчалили от берегов старого Коринфа в поисках новых стран; по волнам океана двигались их триремы килем к Западу, — но Нептун поднял бурю и увлек корабли к столпам Геракла, где некоторые корабли разбились о прибрежные скалы, а другие, более счастливые, проскочили через этот страшный проход, и оттуда прихотливые ветры несли их неудержимо по неведомым волнам. Так текли дни за днями, пока покровительствующая рука богов не привела их к этим берегам. Возблагодарив богов, путешественники поразмыслили о бедствиях, которые претерпели они во время долгих часов своих странствий, и решили остаться на этом острове, который они назвали Аполлонией. Здесь они и обосновались, со своими семьями; они счастливо жили среди ласковой и гостеприимной природы. Постепенно число колонистов вырастало, оказалось, что остров был слишком мал; пищи для выросшего населения не хватало; наступило ужасное время; один из поэтов, Атимос, в возвышенных строфах рассказывает ужасы этой страшной войны с голодом. Некоторые решили снова спустить на воду старые триремы и отправиться на поиски новых земель. Но на некотором расстоянии от Аполлонии море оказалось загроможденным массой морских трав, в которых запутались триремы, и оставшиеся на острове беспомощно наблюдали за медленным угасанием своих собратьев. Я знаю все это из преданий, которые из уст в уста передаются от одного поколения к другому. После этой отдаленной эпохи, когда из-за голода погибло так много наших предков, Аполлония не подвергалась больше опасности голода; сама природа устранила опасность, происходившую от роста населения; в наше племя не вливался приток чуждой крови; наши союзы стали менее плодовиты, и число жителей постепенно стало уменьшаться. Сейчас Аполлония едва может насчитать до ста обитателей; может быть, даже настанет день, когда навсегда угаснет наша раса за отсутствием потомков, унося с собой последние остатки культа Идеального.