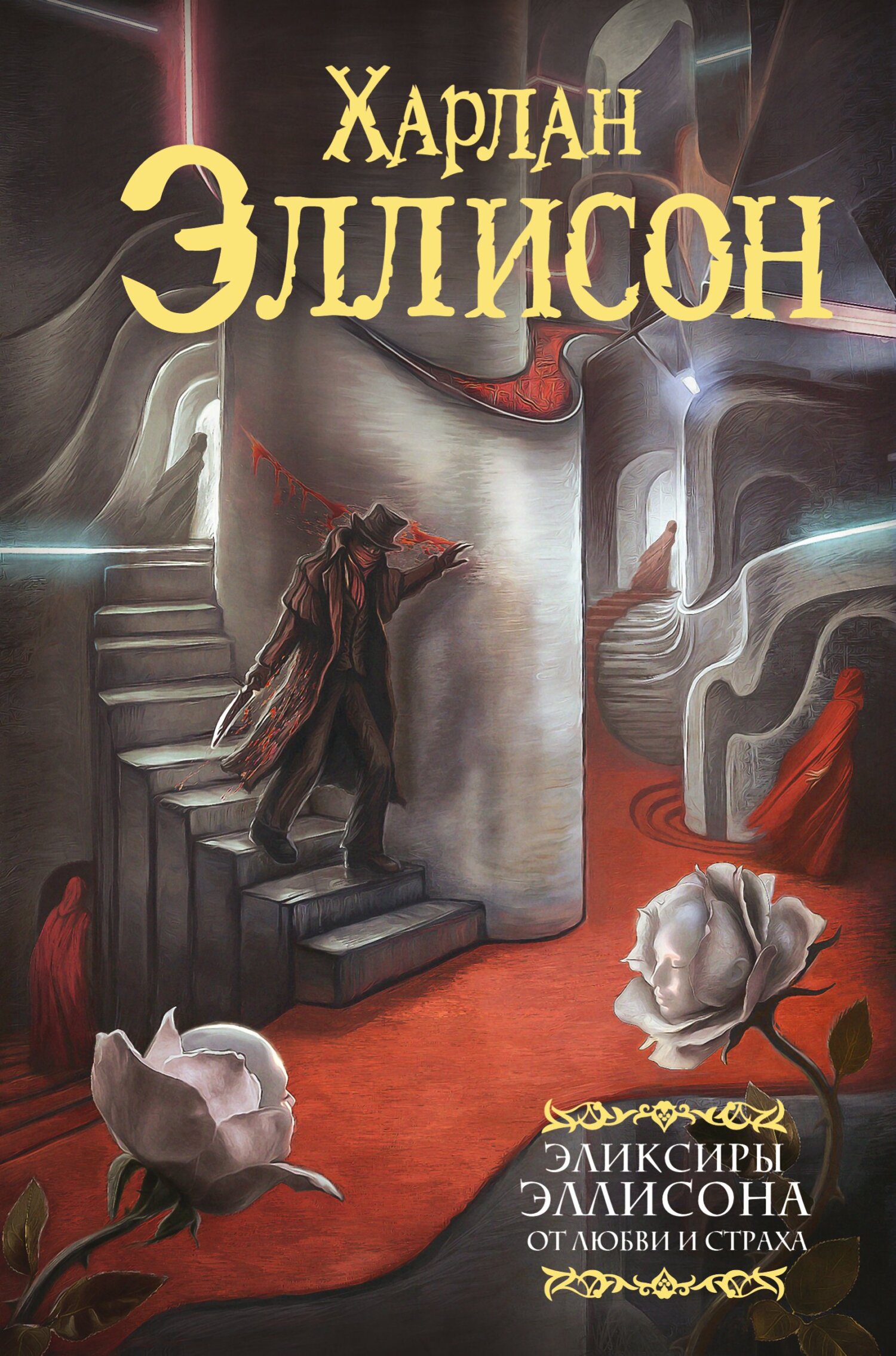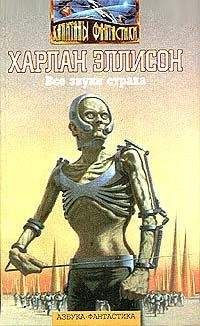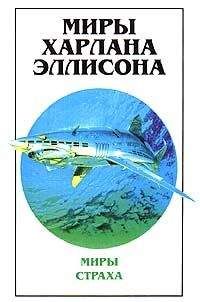что она ему нравится.
– Вы музыкант, – покивал он.
Она ничего не ответила.
– На чем вы играете? – он улыбнулся. – Конечно же, на ультраклавесине. И должно быть, играете очень хорошо.
– Уж лучше, чем вы. Яснее, чище, глубже. О Господи, что я вообще здесь делаю? Вы мне отвратительны.
– Но как я мог бы расти? – мягко спросил Бех. – Мертвые не растут…
Но ее гневная речь продолжалась. Она словно и не слышала его. Она говорила снова и снова о том, как он омерзителен с его фальшивым величием. Внезапно умолкла на полуслове и заморгала, покраснев. И прикрыла ладонью рот.
– О… – произнесла она шепотом, сконфузившись, со слезами на глазах. – О, о…
Она молчала. Надолго. Отвернувшись, она смотрела на стены, зеркало, на свои руки, на туфли. Он не отрывал взгляда от нее. Наконец, она произнесла:
– Какая же я высокомерная дрянь. Жестокая, тупая стерва. Я все время думала, что… может быть… Мне и в голову не приходило…
Ему показалось, что она вот-вот убежит.
– Вы, конечно, мне этого не простите. Да и с какой стати прощать? Я ворвалась сюда, включила вас, орала, наговорила массу глупостей…
– Это не были глупости. Все, что вы говорили, чистая правда. Абсолютно чистая правда. – И, помолчав, он добавил: – Сломать всю механику.
– Не беспокойтесь. Со мной больше не будет хлопот. Я сейчас уйду. Какая же идиотка, читать вам такие лекции! Тупая сопливая ханжа, раздувшаяся от гордости за собственное искусство! Обвинять вас в том, что вы оказались не тем, что я себе рисовала! А сама…
– Вы не услышали меня. Я просил вас сломать всю механику.
Она посмотрела на него невидящими глазами.
– О чем вы?
– Остановите меня. Отключите. Навсегда. Мне хочется исчезнуть. Неужели это сложно понять? Уж кто-кто, а вы должны были бы понять. То, что вы говорили, правда, чистейшей воды правда. Представьте себя на моем месте. Вещь, ни живая, ни мертвая, просто вещь, инструмент, имеющий несчастье думать, и помнить, и жаждать освобождения. Да, механическое пианино. Моя жизнь прекратилась, а с ней кончилось и мое искусство. Все безразлично, даже само искусство. Все всегда одинаково. Те же ноты, те же мелизмы, те же крещендо… Как вы и сказали: притворяясь, что творю. Притворяясь.
– Но я не могу…
– Именно вы и можете. Присядьте, и обсудим это. А вы сыграете для меня.
– Сыграть для вас?
Он протянул ей руку, она протянула ему свою, но тут же ее отдернула.
– Вы должны сыграть для меня, – тихо сказал он. – Я не могу позволить первому встречному избавить меня от этой полужизни. Это ведь серьезное дело, очень серьезное. Не каждому по плечу. Так что вы сыграете для меня.
Он с трудом поднялся на ноги. Лисбет, Шерон, Доротея, все мертвы. Остался лишь он, Бех, точнее, не он, а его мощи. Старые кости, высохшее мясо. Запах изо рта как у древней мумии. Кровь цвета песка. Голос, в котором не бывает ни слез, ни смеха. Просто звук.
Он вел ее, и она шла следом, на сцену – туда, где стоял еще незачехленный инструмент. Он протянул ей свои перчатки, сказав:
– Знаю, они вам великоваты. Я приму это во внимание. Но вы уж постарайтесь.
Она медленно надела перчатки и разгладила их.
Села за ультраклавесин. Он видел на ее лице страх, но и экстаз. Ее руки взмыли над клавиатурой. Опустились, и…
О Боже, Девятая Тимияна! Звуки росли, взлетали ввысь, и с ее лица исчез страх. Да. Да. Он бы играл это иначе, но да, да, да! Ноты Тими, пропущенные через ее душу! Поразительная интерпретация. Немножко сбивчиво, но почему бы и нет? Перчатки не по размеру, без подготовки, да еще и в этих обстоятельствах… Но как же прекрасно она играет. Весь зал заполнен звуком. Он уже не слушал так, как слушал бы критик – он стал частью музыки. Его собственные пальцы трепетали, мышцы сокращались, ноги тянулись к несуществующим педалям, активируя прессоры. Словно он сам играл, а она была медиумом. Дальше, дальше. Она взлетала все выше, сбрасывая остатки нервного напряжения. Полная уверенность. Конечно, мастерства еще не доставало, но до чего же хороша! Она заставила могучий инструмент петь.
Выжимая из него все ресурсы. Стакатто здесь, легато там. О, да! Он погрузился в музыку. Она захватила его целиком. Ему хотелось плакать. Он и забыл о том, что его слезные железы давно атрофированы. Он уже едва выносил это – настолько прекрасной была музыка. А он и забыл, за все эти годы. Он так давно не слышал, как играет другой мастер. Семьсот четыре дня. Так и не упокоившийся в могиле. Привязанный к собственным бессмысленным выступлениям. А сейчас это. Возрождение музыки! Когда-то так оно и было: союз композитора, инструмента и исполнителя, всепоглощающий, очищающий душу…
Но уже – не для него. С закрытыми глазами он – ее телом, руками и душой – доиграл первую часть до конца. И, когда звуки растаяли, он почувствовал блаженное изнеможение, которое испытывал, целиком отдаваясь искусству.
– Прекрасно, – произнес он, нарушив звенящую тишину. – Просто чудесно.
Его голос срывался, руки все еще дрожали. Он не посмел аплодировать.
Он взял ее за руку. В этот раз она не сопротивлялась. Ощущая ее холодные пальцы, он мягко потянул ее за собой, и она последовала за ним в гримерку, где он снова лег на диван и объяснил ей, какие механизмы надо сломать после того, как она его отключит, чтобы он не почувствовал боли.
Потом закрыл глаза.
– И вас просто… не станет? – спросила она.
– Быстро. И безболезненно.
– Я боюсь. Это ведь как убийство.
– Я мертв, – сказал он. – Но недостаточно мертв. Вы никого и ничего не убьете. Вы помните, какой для вас была моя музыка? Помните, почему я здесь? Разве во мне осталась жизнь?
– И все-таки я боюсь.
– Я заслужил покой, – сказал он. Потом открыл глаза и улыбнулся:
– Все хорошо. Вы мне очень понравились.
И, когда она направилась к нему, произнес:
– Спасибо. – И снова закрыл глаза.
Она его выключила.
И проделала все, как он ей объяснил.
Перешагивая через обломки контейнера с системой поддержания жизни, она выбралась из гримерки. Нашла выход из Музыкального Центра и медленно двинулась к стеклянному ландшафту, туда, где пели звезды, и где она оплакивала Беха.
Ладди. Ей так захотелось найти Ладди. Сейчас. Поговорить с ним. Сказать ему, что он был почти прав в том, что сказал ей. Не во всем, но в очень многом…
Она все дальше уходила от Центра, ступая мягко, и унося песни, которым еще предстоит родиться.