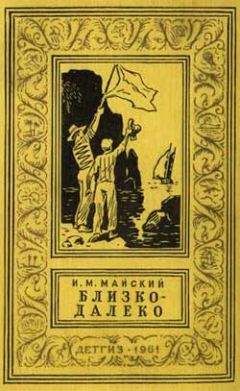— Нет, — повторил Аракелов. — Ничего я еще не решил. А ты? У тебя ведь тоже отпуск?
Марийка кивнула.
— Не знаю… Море — надоело. В горы податься, что ли? Вот ребята на Памир зовут… Искупаемся, а? — Это было сказано безо всякого перехода, с естественной для Марийки непоследовательностью.
— Давай, — сказал Аракелов. — В бассейне, по-моему, никого.
— Ага, — отозвалась Марийка. — Сейчас. Лень вот что-то. Уходить не хочется. Да и разговор у нас с тобой увлекательный. Интеллектуальный.
— Просто на диво интеллектуальный, — согласился Аракелов. — Душу радует и ум волнует. Так что давай, иди.
— И пойду. Вот только посижу еще немного.
— Сиди, — милостиво разрешил Аракелов. — У тебя программа когда кончается?
— Через две недели.
— И в институт?
— Конечно.
— Ясно. — Аракелов помолчал. — Я тебя встречу, пожалуй. Если, конечно, в городе буду. Ты самолетом?
— Самолетом.
Они помолчали. Потом Марийка спросила:
— Ты уже завтракал?
— Нет еще. А ты?
— Тоже нет. А неплохо бы…
Аракелов посмотрел на часы.
— Еще минут сорок.
— Да, сейчас бы… Чего бы это такого? Котлет, например, картофельных с грибным соусом, а? Как ты думаешь?
— Не знаю. Я их последний раз пробовал года четыре назад. В Таллине. В столовой на Виру.
— Никогда не была в Таллине.
— Кстати, о котлетах. Я, между прочим, по пельменям большой специалист. Как ты к ним относишься?
— Положительно.
— Это хорошо. Терпеть не могу, когда усладу желудка приносят в жертву сохранению фигуры…
— Ничего с моей фигурой не будет.
— Так придешь ко мне на пельмени?
— В шесть часов вечера после отчета?
— Точно.
— Я подумаю.
— Только не слишком долго. Мне ведь всего два дня осталось. Даже полтора, собственно.
Если она согласится прямо сейчас, загадал Аракелов, то все будет. И то, что было, и то, чего не было. И Увалиха будет. И отпуск. И все, все, все… Но прежде чем Марийка успела открыть рот, наверху, на бот-деке, всхрапнув, проснулся громкоговоритель:
— Аракелова на мостик! Аракелова на мостик!
Аракелов чертыхнулся.
— Иди, — сказала Марийка. — Иди. Мастер[1] ждать не любит.
— Что там еще стряслось?
— Вот потом и расскажешь. Иди. А я пока смесь твою допью. Договорились?
— Договорились, — кивнул Аракелов. — Так как насчет пельменей?
— Я подумаю.
— Подумай, — сказал Аракелов. Он безнадежно вздохнул и встал. — Ну, я пошел.
Марийка смотрела на него снизу вверх, и лицо у нее было… Аракелов так и не успел определить, какое, потому что вдруг — неожиданно для самого себя — наклонился и поцеловал ее. Губы у нее были мягкие, прохладные, чуть горьковатые от сока.
— Убирайся, — шепотом сказала Марийка, отталкивая его.
Но интонация совсем не соответствовала смыслу слов.
Аракелов выпрямился и, не оборачиваясь, зашагал по палубе. Не оборачиваясь, потому что обернуться было страшно.
Уже у самого трапа на мостик он нос к носу столкнулся с одним из трех радистов «Руслана».
— Что там стряслось, Боря?
— Мэйдэй[2], — коротко ответил тот и, довольно бесцеремонно отодвинув Аракелова, побежал дальше.
Мэйдэй! Только этого не хватало! Что там еще стряслось?
— Еще кофе, капитан? — Кора держала в руке кофейник — удлиненный, изящный, с эмблемой «Транспасифика» на боку: стилизованное кучевое облачко, кумула-нимбус, намеченное небрежными, округлыми голубыми линиями, на нем — маленький золотой самолетик со стреловидным оперением, а надо всем этим — восходящее солнце, которому золотые лучи придавали сходство с геральдической короной. Такой же знак был и на чашке, которую Стентон решительно отодвинул.
— Нет, спасибо. Докурю — и пойду в рубку. Давно пора бы появиться этому чертову тунцелову…
— Не волнуйтесь, капитан, — Кора улыбнулась. Она всегда улыбалась, называя его капитаном, отчего уставное обращение превращалось чуть ли не в интимное. На Стентона эта ее улыбка действовала примерно так же, как стеклянный шарик провинциального гипнотизера: притягивая взгляд, она погружала Сиднея в какое-то подобие транса. Он, правда, старался не выдавать себя, но вряд ли это ему удавалось. Во всяком случае, он был уверен, что Кора прекрасно все видит. — Ну, потеряем мы полчаса, так наверстаем потом…
— Так-то оно так… — отозвался Стентон. Кора перестала улыбаться, наваждение прошло, и он снова ощутил глухое раздражение. — Так-то оно так… — повторил он и с силой ткнул сигарету прямо в золотое солнышко на дне пепельницы. — Но все-таки… Спасибо, Кора. Я, пожалуй, пойду.
Он поднялся из-за стола. Кора тоже. Немногим женщинам идет униформа, Стентон знал это прекрасно, но про Кору сказать такого было нельзя. Как, впрочем, было нельзя и сказать ей об этом: в бытность свою стюардессой она наслушалась еще не таких комплиментов… Кора быстрым движением поправила — непонятно зачем, подумал Стентон, — свою короткую и густую гриву цвета дубовой коры.
— Пойдемте, капитан! — удивительно, сколько оттенков можно придать одному и тому же слову! Теперь оно прозвучало как-то залихватски, вызвав в памяти призраки капитана Мариэтта и Майн Рида, но сквозило в нем и скрытое уважение, объясняемое не только субординацией.
— Вы к себе, Кора?
— Да. С Факарао передали список грузов, надо прикинуть, что куда…
С таким суперкарго, как Кора, не пропадешь. У нее было какое-то чутье, интуитивное ощущение корабля: почти без расчетов она всегда могла точно указать, в какой из тринадцати грузовых отсеков дирижабля и в какое место этого отсека надо уложить тот или иной груз, чтобы обеспечить равномерность нагрузок. Однажды Бутч Андрейт, второй пилот и большой любитель всяческих пари, взялся проверять ее работу на корабельном компьютере. В итоге ему пришлось угостить Кору обедом в уютном болгарском ресторанчике в Окленде, причем хитроумная Кора пригласила весь экипаж, благо условия пари предусматривали такой обед, «какой она захочет». Получилось, надо признаться, весьма неплохо… Пожалуй, именно в тот вечер Стентон впервые обратил на нее внимание — не только как на первоклассного суперкарго.
— Хорошо, — сказал Стентон. — Посылка для тунцелова готова?
— Конечно, капитан.
С этими словами Кора вышла из салона. Стентон последовал за ней, невольно скользя взглядом по линиям ее фигуры и ощущая при этом волнение, ставшее уже каким-то привычным, чуть ли не ритуальным. В сущности, ему надо было только сделать первый шаг, в этом он был твердо уверен. И так же твердо уверен он был и в том, что шага этого не сделает. Может быть, потому, что, как и большинство мужчин, он боялся сравнения, а Коре было с кем сравнивать. Возможно, были и другие причины, о которых не подозревал и он сам. Главное же — сейчас он не имел на это права. Потому что женщины не любят неудачников — за тем разве что исключением, когда неудачники эти остро нуждаются в сочувствии и жалости. Стентон же в них не нуждался. По крайней мере, он старательно и успешно убеждал себя в этом.