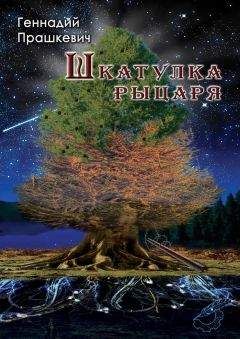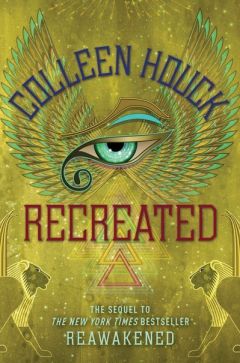– Вцепился!
– Кто вцепился? – ахнула толпа.
– А я знаю? – выругался пожарник. – Тяни!
После мощного рывка на утоптанную траву, загаженную окурками, вылетел тощий, как палка, мальчик-таджик.
– Максимка! – разочарованно взвыл парагваец. – Бросай обратно!
Смуглое лицо Максимки исказилось. Он понимал русскую речь. Он не хотел обратно в шурф. Он судорожно вцепился обеими руками в траву. Какая-то сердобольная баба не выдержала: «Шо? Змэрз, Маугли?»
Куплю все!
Интересно, захаживает Лигуша в местный кишлак?
Шурик наконец добрался до цели. Бревенчатый дом бывшего бульдозериста, явно срубленный еще до Второй мировой войны, запирал конец улицы, превращая ее в тупик. Глухой забор недавно подкрасили, на свежих тесинах красовались самодеятельные надписи. Все были сделаны одной рукой, носили отталкивающий характер и касались особых примет Лигуши. В глубоком вырезе калитки что-то чернело, вроде как кнопка электрического звонка. Шурик сунул палец в вырез и получил ошеломляющий удар током.
– Черт!
На невольный вскрик выглянул из-за соседнего забора ветхий старикашка.
– К Ваньке? – спросил он, поправляя ватную шапку на голове. – Плох стал наш Ванька. Раньше слышал как человек. Закричит кто-то, он сразу к калитке. А сейчас кричи, не кричи, ему все равно, потерял удовольствие. А раньше здесь бондарь жил. Хороший мужчина, мамаша Ванькина дом у него купила. Вон береза пригнулась к самой крыше. Сырость от нее, крыша гниет. Нет, – заключил старик, – не хозяин Ванька.
И неожиданно выпалил:
– Ты к нему зачем?
– Исключительно по делу.
– Ну, ясный хрен, – согласился старикашка. – Ты крикни громче.
– Куда уж громче? – раздраженно пробурчал Шурик, потирая обожженный электричеством палец.
– Крикни, крикни, – убеждал старикашка. – И я заодно человеческий голос послушаю.
Как раз в этот момент над подправленным забором поднялась голова бывшего бульдозериста. Наверное, по ту сторону забора была подставлена скамеечка. Стоя на ней, Лигуша сразу возвысился – и над Шуриком, и над улицей. В темных, бобриком, волосах бывшего бульдозериста звездочками посверкивали чешуйки простой русской рыбы.
– Чего надо?
– Я, слышь, Иван, бумажник потерял.
Иван Лигуша скучно почесал затылок.
Подумав немного, медленно открыл калитку.
Вблизи бывший бульдозерист показался Шурику совсем уж необъятным.
Не то чтобы толст был. Скорее рыхл, волосат, странно приземист, как мамонт из страшной книжки. И голова как у мамонта – огромная, шишковатая. И скучен. Безмерно скучен. Ни дневные заботы, ни грядущее вечернее пиво нисколько не трогали бывшего бульдозериста, как будто он давно знал все и о себе, и о своей жизни. Тяжело ступая корявыми босыми ногами по дорожке, вытоптанной в лебеде, Лигуша, сопя, провел Шурика на деревянное крылечко, оттуда в сени, а из сеней в кухню.
Просторная, неожиданно опрятная кухня. Русская беленая печь, ситцевая занавесочка над сушилкой. Занавесочка совсем выцветшая, но все равно опрятная. Веселый солнечный свет падал в распахнутое настежь окно, рассеивался, ложился на стены, на низкий потолок. Старую клеенку, покрывающую деревянный стол, испещряли подозрительные темные пятна, но они тоже были замыты опрятно. Правда, чугунная сковорода, покрытая треснувшей до половины тарелкой, стояла не на подставке, а на толстой потрепанной книге. Шурик даже часть имени рассмотрел. Лукреций Ка… Некоторые буквы закрыло сажей и налетом рыбьей чешуи.
Дверь в комнату была прикрыта.
– Плечо ноет? – посочувствовал Лигуша.
Шурик кивнул. Вопрос его не удивил. У людей постоянно что-нибудь ноет.
Все же повисла на кухне настороженная тишина, которую Лигуша как бы еще и подчеркнул, демонстративно занявшись сковородой. Он сунул ее в печь, потом хлопнул потрепанной книгой по колену.
– Что читаем?
Шурик был уверен, что Лигуша не ответит.
Но бывший бульдозерист заносчиво просипел:
– Так… Что-то воронье…
До Шурика не сразу дошло, что Лигуша говорит о книге Лукреция Ка, – видимо, Лукреция Кара. Но потом дошло, и он решил поставить бывшего бульдозериста на место:
– Для своего времени эта книга была, наверное, чертовски занимательной…
Лигуша обернулся. Туман равнодушия в его глазах вдруг растаял, глаза стали желтыми, как у волка.
– Для своего времени? – переспросил он.
– Ну да. Она ведь не сейчас и не для нас написана.
– А если монах Грегор Мендель, – чванливо просипел Лигуша, – если монах Грегор Мендель пишет, что при одновременном перенесении на рыльце цветка пыльцы двух различных видов только один вид производит оплодотворение, это что – тоже занимательно только для своего времени?
Шурик обалдел. Он не знал, кто такой Мендель. Еврей, наверное. Извращенец. Но то, что Лигуша так круто сослался на какого-то монаха Менделя по имени Грегор, Шурика завело.
– Бумажник я потерял…
Лигуша противно пожевал толстыми губами:
– Двадцать процентов!
– Чего двадцать процентов?
– Как чего? Наличных. Правда, их в твоем бумажнике кот наплакал.
Лигуша нагло ухмыльнулся, пожирая Шурика желтыми самодовольными глазами. Ни за что не поверишь, что этот человек только что упоминал Менделя.
– С потерянной суммы? – догадался Шурик.
– С найденной, – самодовольно поправил Лигуша.
Они снова замолчали. Беспрерывно жуя, Лигуша прошелся по просторной кухне. Громадные руки он прятал в карманы брюк, босые ступни звучно шлепали по крашеным половицам. Шурик ждал. Он не знал, что говорить. К счастью, и говорить не пришлось. От бывшего бульдозериста вдруг пыхнуло жаром. Громко икнув, он присел на корточки, будто знал, что дальше случится. Впрочем, даже в этом положении желтые волчьи глаза оставались на уровне глаз сидящего на скамье Шурика. Внимательные, очень внимательные, хотя уже встревоженные глаза, в их глухой пустоте, как в ночном небе, угадывалось что-то нехорошее.
– У Лёшки…
– Что у Лёшки?
– У Лёшки твой бумажник…
– Лёшка – это официант? – догадался Шурик.
Лигуша кивнул. От него несло нездоровым жаром.
– Ты рыбу ешь, – почему-то посоветовал он. – Ты чаще ешь рыбу.
И, посмотрев на Шурика, сжал свои виски толстыми ладонями и вышел.
Прислушиваясь к позвякиванию металлического ковша (Лигуша черпал воду из кадушки), Шурик быстро и неслышно пересек кухню и толкнул тяжелую деревянную дверь в жилую, как он думал, комнату.
И замер совершенно ошеломленный.
Яркий солнечный свет играл на крашенном желтой краской, но уже облупившемся, уже пошедшем пузырями полу. Сухая известка на стенах осыпáлась, по углам сквознячок шевелил висящую паутину. Ни стула, ни стола. Зато под потолком, как матовые фонари, висели гигантские осиные гнезда.