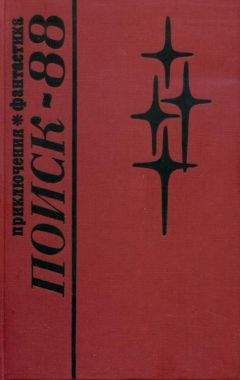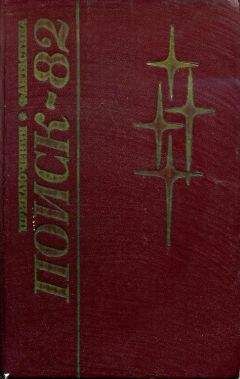Семен быстро повернулся к нему:
— Ты чего, парень?
Сашка лежал с неподвижным лицом и смотрел прямо перед собой.
— Эй, Саша, что с тобой? — тревожно повторил Семен и отложил полевые журналы. Он встал, сильным и бережным движением перевернул его на спину:
— Ну?
— Живот болит, — равнодушно ответил Сашка.
— Может, поел чего? — всполошился Валерка.
— Не-ет, мышцы потянул, когда дрова таскал.
Семен молча задрал ему к подбородку рубаху и свитер, теплыми ладонями огладил живот, слегка помял:
— Так больно?
— Не пойму... Он весь болит, Семен...
Семен на минуту задумался.
— Давай попробуем вот здесь... Внизу, справа...
Тремя пальцами он плавно надавил ему на живот и задержал руку:
— А так?
— Да, чувствуется...
Семен резко отдернул руку:
— А вот так?
Сашка молчал.
— Ну что, Саня, так больно? — забеспокоился Валерка.
— Да погоди ты... — зло сказал ему Андрей. — Видишь, он от боли дыхание перевести не может.
Наконец Сашка зашевелился и стал молча натягивать на живот свитер.
— Почему днем, когда я на связи был, не сказал, что тебе плохо? — резко спросил Семен.
— Думал, пройдет. Растяжение ведь... Да и все равно — пурга.
— Да-а... Пурга... — протянул Семен, и что-то страшно тоскливое послышалось в его голосе. Такая отчетливая звериная нотка тоски, что парни заволновались...
— Чего с ним, Семен? Ну что там?
Семен помолчал немного и раздельно сказал:
— Аппендицит. Вот такая банальная вещь.
Пустое поле аэропорта перемела поземка. В стороне неподвижно стояли вертолеты и «аннушки». Лопасти вертолетов были зачехлены и притянуты к земле расчалками. Ветер таскал по взлетной полосе длинные полосы поземки, похожие на рваные бинты, укладывал их в беспорядке, закручивал на свой лад. Ни самолеты, ни птицы не летали в этот день над городом.
Но в здании аэропорта, в диспетчерской, были люди. Один из них с усилием оторвал взгляд от заснеженного поля и спросил:
— Что делать будем?
— Ждать, Олег Андреевич, что здесь сделаешь...
— Ждать нельзя. Парень вторые сутки лежит с приступом в палатке. От этой болезни тоже умирают и даже быстрее, чем нам это кажется.
— А что говорит Трегубов?
— Они готовят вездеход. Но двести километров по тундре, в пургу, через вскрытые ручьи — это нереально.
— А двести километров по воздуху, в болтанку, при такой видимости — реально?
— Ну, это здесь света белого не видно, а на побережье пурга идет зарядами. Я бы попробовал.
— Так то — ты... — А там Кочетков сидит.
— А что — Кочетков? Все еще молодой? Это пройдет со временем.
Они негромко рассмеялись. И дело было не в этой немудреной шутке, а в том, что мужчины нашли решение.
Вертолет рокотал над вершинами низких пологих гор. Он полз вдоль гигантской клубящейся стены, вдоль снежного заряда. Порой он зарывался в него, потом снова выныривал, наконец развернулся и стал снижаться. Вздымая облако снежной пыли, вертолет завис над плоской возвышенностью, коснулся колесами земли. Еще минуту он грохотал над тундрой, потом звук стал тише, лопасти стали посвистывать реже, наступила тишина.
— Пойдем назад? — спросил бортмеханик.
— Нет, не пойдем, — отозвался Кочетков. — Что ты, Гена? Надо посидеть, подумать. Подождать.
— Погодушка... — проворчал второй пилот. — Сколько летаю на Камчатке, а все не перестаю удивляться: здесь одна погода, через пятьдесят километров — вторая... Вон там видимость — метров четыреста. Здесь нормально...
— А мне больше и не надо, — вдруг громко сказал Кочетков. — Дай-ка сюда планшетку.
Несколько минут он внимательно рассматривал замысловатые петли ручьев и речушек, потом щелкнул по целлулоиду планшетки ногтем и вздохнул:
— Зря ты со мной связался, Вадим. Еще гробанешься где-нибудь и не попадешь в свою Африку. На сафари.
— Эт-то точно, — откликнулся второй. — Давай заводи, попробуем твой слалом.
Раскрутились лопасти, вертолет завис над землей, потом пошел, потянул над тундрой и вдруг резко взмыл вверх. Через несколько километров он снизился, прошелся с грохотом над ручьем так, что осенняя вода зарябила... И снова ушел вверх, раскачиваясь в легких виражах, словно привыкая к изгибам тундрового ручья.
Через сто с лишним километров этот ручей превратится в неширокую обмелевшую речку, что течет рядом с одинокой палаткой.
Сашка не спал уже третьи сутки. Он знал, что скоро умрет. По ночам он пытался представить всю свою жизнь, кажется, так было положено делать в последние часы... Но в голову лезли посторонние мысли. Каким-то внешним, чужим зрением он видел всю эту огромную тундру, маленькую палатку, себя, лежащего в грязном спальном мешке, измученных парней, маленький домик на берегу Дона...
Временами он забывался в полубредовом сне, и тогда тупая боль рвала и дергала беспомощное тело. В такие минуты человеческий инстинкт подсказывал ему, что стонать не нужно, и тогда он впивался зубами в брезентовый клапан спальника и медленно жевал его, словно делал неприятную, но нужную работу. Очнувшись, он чувствовал во рту привкус грязной сырой тряпки и спокойно думал, что вот еще одно, незнакомое, новое чувство подарила ему судьба, и тихо радовался, что успел узнать его.
Первые двое суток парни вздрагивали от каждого шума. Семен выскакивал несколько раз наружу, в пургу... Слушал... Возвращался он молча, с сопением вытаскивал патрон из ракетницы и ставил его на видное место.
В такие минуты за далекий рокот вертолета можно было принять все: треск поленьев в печурке, невнятное бормотанье радио, скрип железной трубы у печурки, даже собственное хриплое дыхание можно было принять за рокот далекого вертолета.
А пурга продолжала свою волчью песню... Она волочила длинные космы снега, заметала палатку, тундру, всю огромную землю...
Больше всего Сашку мучило то, что за всю свою жизнь он ни разу не задумывался о том, что человек живет единожды. Всего один раз! Пойми он это сразу, может, и жизнь-то повернулась бы по-другому. «Любовь и голод правят миром», — вспомнил он где-то слышанную фразу. «Ерунда, — думал он. — Так можно перечислять до бесконечности: любовь, голод, любопытство, страх, ненависть... Страх перед смертью правит миром. Страх перед тем, что ты уйдешь, и никто тебя не вспомнит. Этот страх — подсознательный, властный — толкает людей на все: на открытия — только бы не забыли, на преступления — только бы вспомнили... Нет сил на большое — на века, — значит, копи деньги, тогда хоть дети тебя не забудут ближайшие десять лет...»
Он даже улыбнулся, заметив, что мысли получаются гладкие, как по писаному. «Может, и из меня что-нибудь получилось бы...»