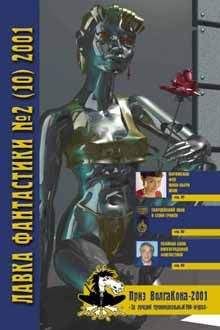Братья бренчали на временно свободных от Долли гитарах и стучали по столу расписными ложками Манюни. Собачка Петровых тоненько выла в кухне. Сколоченный на скорую руку из отходов стройматериала ансамбль заиграл с азартом и довольно стройно.
Вдохновленная сопровождением, Долли запела. У меня открылся рот. Голос ее поднялся над нами и зазвучал откуда-то сверху сильно и нежно. И почему-то перестали казаться глупыми и жалкими канатные водопады Петровых, трепетные души свечей пришлись к месту, а торчащие на бритых головах уши братьев смотрелись таинственно и строго. Банальные физиономии однокурсников неожиданно обернулись лицами людей умных, печальных, бесконечно одиноких в развеселой пьяной толпе. И неважно было, что слова в песне чепуховые, а мелодия на копейку. Не важно вообще ничего. У Долли и правда оказался талант.
Мы прослушали, я думаю, весь репертуар наипопулярнейшего «Бергамота». Под занавес был подан величайший шлягер всех времен и народов «Бедная Лиза».
— Ой, что-то знакомое! Ленка, это же твоя песня! Только мелодия вроде другая, — встряла эрудированная Манюня. — А стихи точно твои.
— Твои? — развеселилась Долли. — Мы думали, народные. Фольклор, — ввернула она научное слово.
— Весь фольклор экспроприирован народом у своих лучших представителей. Сплошной плагиат, — ответила я.
— Значит, ты стихи пишешь?
— Пишет-пишет! — зашумели в зале. — Еще песни сочиняет и сказки.
— Писала, — поправила я, — по молодости. И по дурости. Теперь взрослая и умная.
— Пой! — приказала Долли, вручая мне гитару.
— Фиг, — отрезала я, демонстративно хватая со стола кусок чего-то крупного и поспешно пихая в рот.
— Почему?
— М-ням, — издала я.
— Да мы вам споем, споем! Мы песни ленкины наизусть помним, еще лучше нее, — обрадовались угодить сокурсники. Братья опять похватали гитары, Леня припал к контрабасу и пьяный хор взвыл:
Эта уличная мразь
Разбрелась, куда попало.
Скука плотно улеглась
и висела, и стояла.
Где-то слабенькая грудь
выводила о хорошем.
Из дворов глазела муть,
и невкусно пахло прошлым.
Мяли землю каблуки,
та визжала неприлично.
Шли одни недураки
деловые, как обычно.
Я, один на всех дурак,
в наглых птиц кидался хлебом.
А на крыши влез синяк
и прикидывался небом.
Теперь уж Долли пришлось насладиться доброй половиной моего культурного наследия. Белорыжая зараза молча улыбалась, ехидно посматривая из троноподобного кресла. Я продолжала есть.
— Вот ты какая, — констатировала она по окончании псевдомузыкального экскурса в мое прошлое.
— Неправда. Я — ведущий конструктор нашего КБ, серьезная и высокооплачиваемая деловая дама.
— Что же ты конструируешь?
— То же, что и остальные здесь — унитазы для самолетов. Мой профиль — гидропланы.
— А мы сейчас разрабатываем секретную канализацию для бомбардировщика Б-20 Зандерболт, — похвастались немецкие братья. — Но это военная тайна.
— Надо же, — вежливо удивилась звезда. — Как-то мне в голову не приходило, что в бомбардировщиках нужна канализация.
— А как же! Захотел пилот пописать, что ему — дырку в полу дрелью вертеть? Баночка-то на вираже перевернуться может. А через дырку моча попадет на территорию врага и экологически загрязнит ее, неприятностей с зелеными не оберешься. Не-ет, без канализации никак, — разъяснили засекреченные братья.
Дама фыркнула:
— А бомбы, они территорию врага не загрязняют? А ты чем сейчас занимаешься? — обратилась она ко мне.
— Унитазирую самолет нового русского. У его тещи дача в Новых Лядах, там прудик, приземляться очень удобно. А летать не очень — у клиента кишечник слабый. Чтоб дискомфорта в воздухе не испытывать, он желает иметь возможность сходить прямо под себя. Делаю совмещенное унитазокресло.
А специалисты из сопутствующего цеха шьют соответствующие штаны.
— Интересная работа, — ответила воспитанная Долли. — Нужная людям. Хорошо платят?
— Не обижают.
— Почему тогда у вас в доме диван, стол, игрушки да голые стены? — перебила любопытная Жанна, изведшая визитами половину факультета. — Одна приличная картина, и та висит в сортире.
Представляете? Прихожу туда, в общем, руки помыть, гляжу — над унитазом море. Читаю: батюшки, Айвазовский! «Вид бухты Мариуполя с горы Константинополя. 1856 год». Выхожу, спрашиваю у Сергея Николаевича, это ленкин папа, подлинник? Да, говорит. Что ж тогда, возмущаюсь, он у вас в туалете, его в гостиную надо, на центральную голую стену. А он: «Здесь влажность соответствующая и нет попадания прямых солнечных лучей».
— Потому и стены голые, все в папину коллекцию вкладываем, — вздохнула я.
— Где коллекция-то? Один Айвазовский.
— Он коллекция и есть. Папа давно картины собирает, начал с Махалкина, местного гения. Подкопил денег — Махалкина продал, этюд Куинжи приобрел. И так далее. Теперь до Айвазовского дошел. Сейчас у него Рембрандт на примете, да средств пока не хватает.
Манюня, слегка встревоженная перерывом в культурной программе, решила подхватить тему живописи:
— Кстати! Наш Васюся неплохо рисует. Особенно ему тараканы удаются. Может, твой папа купит пару его картин?
— Вряд ли. Квартирка хрущевская, хранить негде. Поэтому у нас бывает только одна картина одновременно. А поменять Айвазовского на Васюсю папа не согласится.
Васюся, похваленный в присутствии заезжей звезды, нежно краснел и потел.
— Знаете, у нас весь выпуск такой подобрался талантливый: Андрюша шьет кукол, Жанна лобзиком по стеклу выпиливает, Анечка свистит иволгой, Бобровы лепят из пластилина, все, все ужасно одаренные! — трещала Манюня.
— Каким же талантом Господь одарил вас? — поинтересовалась Долли.
— Моя Манюня танцует на столе, — гордо возвестил Петров-муж.
— Попросим! Попросим! Степ! — взликовала стосковавшаяся по зрелищам толпа.
Толстая Манюня подвернула полы совмещенного с халатом вечернего платья и, кряхтя, закинула на стол полную ножку в модельной туфле. Взыграла музыка, завизжала Жанна, заухали, засвистели и заскакали инженеры. Круглая Манюня, топча свечи, лихо стучала каблуками по столу и трясла ажурной шалью. Белая Долли, путаясь в канатах, пьяной молью металась по гостиной. Веселье смяло, наконец, шаткую плотинку цивилизованности, бурно и мощно хлынуло в давно подготовленное Петровыми русло.