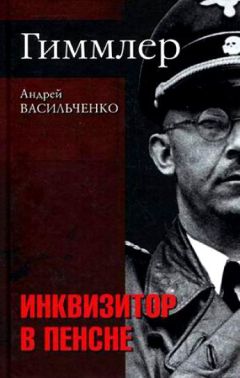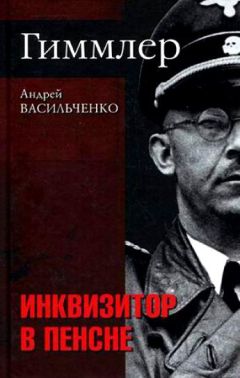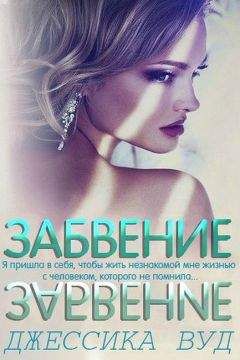У дяди тоже есть желтый чемодан, купленный еще в Гонолулу, но этот чемодан лежит дома, в квартире, вызывая зависть и нерасположение более скромных и менее нарядных предметов. Чемодан лежит дома, а дядя уже здесь, возле вокзала, чтобы ощущать чужое волнение и спешку и — кто знает? — может, мысленно посадить себя в длинный международный пульмановский вагон, в котором сидят иностранцы, дипломаты и другие важные персоны и пьют кофе с ликером. Во всяком случае, приятно чувствовать себя спокойным среди беспокойных, демонстрировать всем чувство собственного достоинства и важно покашливать, держа во рту сигару и элегантно опираться на ореховую трость с костяным набалдашником и медной эмблемой.
Дядя чист, опрятен, нарядно одет, а те, кто не знает его, вероятно, принимают дядю за приехавшего из Харбина международного дельца, а может, и за влиятельного иностранца.
— Мальчик, сбегай за спичками, у меня кончился бензин в зажигалке. Да знаешь, побыстрей, скоро начнется посадка.
Подъезжает коляска, как на старинной гравюре или на странице переведенного с французского романа. Из коляски выходит красивая молодая дама в шляпе с длинным пером и в отороченном соболиной опушкой манто и идет к дверям вокзала.
Я описываю ее слепому, словно держу в руках ожившую страницу книги.
— Это она, она! — говорит слепой.
— Кто?
— Кто же еще? Сама Черноокова-Окская. Колоратурное сопрано. Ты знаешь, что такое сопрано?
— Кажется, знаю. А я думал, это бывшая княгиня.
— Княгини, как правило, безголосы, мальчик. А кроме того, они теперь выдают себя за бывших горничных.
— Это почему?
— Потому что революция. Пора тебе это знать. Черноокова-Окская уже прошла, а я, словно забыв об этом, все еще держу в руках воображаемую страницу переведенного французского романа.
Слепому, по-видимому, тоже хочется вписаться в этот роман.
— Черноокова-Окская, — говорит он. — Таких артисток еще не видела сцена. Божественный голос, мальчик. И лицо, как… мне не найти сравнения.
— А откуда вы знаете? Вы же не видели.
— Слышал. А слышать-это все равно что видеть. Ее голос передал мне ее всю-от прически, больших черных глаз, до ног, которыми она вошла едва касаясь земли. Она как поцелуй богини… Интересно, куда она едет? Наверно, к себе в Иркутск.
Здесь время не властно над вами. Мы с дядей- только зрители среди действующих лиц. Все спешат, все волнуются. Началась посадка.
И вдруг дядя тоже превращается в действующее лицо.
— Скорей, мальчик. Уже звенит звонок. Носильщик, наверное, уже доставил в международный вагон наш багаж. Идем! Идем!
Слепой спешит. Он держит меня за руку. Я чувствую, как пульс бьется в его руке. Это биение налившейся нетерпением крови передается и мне. Я тоже теряю контакт с самим собой и с логикой. У меня тоже начинается дорожная лихорадка. Мы быстро проходим через пахнущий залежавшимися и закисшими вещами зал и выходим на платформу.
Поезд еще стоит. В раскрытое окно вагона я вижу Черноокову-Окскую. Уже овеянная расстоянием, она как в раме, которая еще держит ее здесь.
Протяжный гудок, и вагон медленно уходит. Дядя бежит по платформе, тщетно пытаясь догнать уплывающий, как во сне, вагон, и шумно падает на платформу.
Я прибиваю афишу над дядиной кроватью. Вчера он принес ее свернутой и, развернув на столе, попросил меня прочесть все, что на ней написано.
Я стал читать, но не с начала, а с конца, где были обозначены цены на билеты.
— Мальчик, — оборвал меня дядя. — Меня не интересуют цены. Настоящее искусство не покупают и не продают. Скажи, пожалуйста, нет ли на афише ее портрета?
— Да, есть изображение. И написано: «Гастроли знаменитой певицы Чернооковой-Окской». Она на самом деле знаменита?
— Кого ты спрашиваешь? Я не пропустил ни одного ее концерта. И на память об этих концертах хочу сохранить афишу.
Я гляжу на лицо певицы, отпечатанное на афише. На лице ее желтое пятно от клея. Уж не отклеил ли слепой афишу от уличной стены, где она висела, привлекая прохожих? Я вспомнил окна вагона и узкое женское лицо, вдруг поплывшее от меня вместе с окном, лицо, отобранное от меня далью как раз в ту минуту, когда я хотел ее рассмотреть.
— Почему у нее двойная фамилия?
— А ты не догадываешься?
— Нет.
— Мальчик, пойми, если у тебя был бы талант, как у нее, и публику охватывал бы трепет, страдание, восторг от твоего голоса и твоей улыбки, ты бы понял, что одной фамилии мало. Если бы она была только Окской, ей чего-то бы не хватало. Но вслушайся, как звучит это: Черноокова-Окская.
По недостатку вкуса мне тоже казалась прекрасной эта слишком театральная фамилия. Я произносил эту фамилию про себя, словно боясь, что певица услышит меня, она — и даль, с которой она породнилась и слилась в одно химерично-сказочное целое… Уж не та ли же страсть, что и слепого, охватила меня, когда я смотрел на афишу и видел прелестное лицо и красивую шею сквозь вырез шелкового платья?
Дядя попросил меня найти среди лежащих на столе пластинок ту, что была напета Чернооковой-Окской. Он на днях принес эту пластинку, купив ее у тонкоголосого мужчины, и тот долго рядился с дядей, прежде чем со вздохом сожаления ее уступить.
Я нахожу и рассматриваю пластинку. На пластинке изображение летящего в небе ангела, играющего на флейте. Я завожу старенький граммофон с огромной синей трубой. Сначала в трубе кто-то хрипит и, кажется, даже сморкается и кашляет. Потом сквозь хрип прорывается женский голос. Это голос Чернооковой-Окской. Мне кажется, я снова вижу окно вагона, узкое женское лицо и шляпу с пером. Окно уже двинулось вместе с вагоном и уходит в даль, в даль, так и не ставшую близью.
Меня несут к тебе волны и сны,
А между нами зимы, версты, снега.
Но, милый, я вернусь к тебе до весны,
И пусть плывут, пусть поют облака.
Слепой, наверно, думает, что это его просит певица ждать до весны, а я убежден, что она просит меня. Уж не в этом ли суть песни, обращенной сразу ко всем и одновременно только к одному? Я еще не догадываюсь об антиномии лирики и музыки, где личное причудливо переплетается с общим и становится вечной загадкой.
Черноокова-Окская поет, окуная нас в свой голос, в песню, в длящиеся, очаровывающие звуки, которые манят нас: взрослого слепого, на минуту ставшего зрячим, и зрячего подростка, увлеченного в темноту, в мрак ожидания.
Между солидным взрослым человеком, одетым в тщательно выутюженный летний чесучовый костюм, и мною, безусым подростком, возникают странные отношения. Мы оба влюблены в одну и ту же женщину, умеющую так удивительно сливаться в одно целое со своей фамилией, с далекой рекой и с песней, возникающей рядом, как только мы поставим пластинку и заведем граммофон.