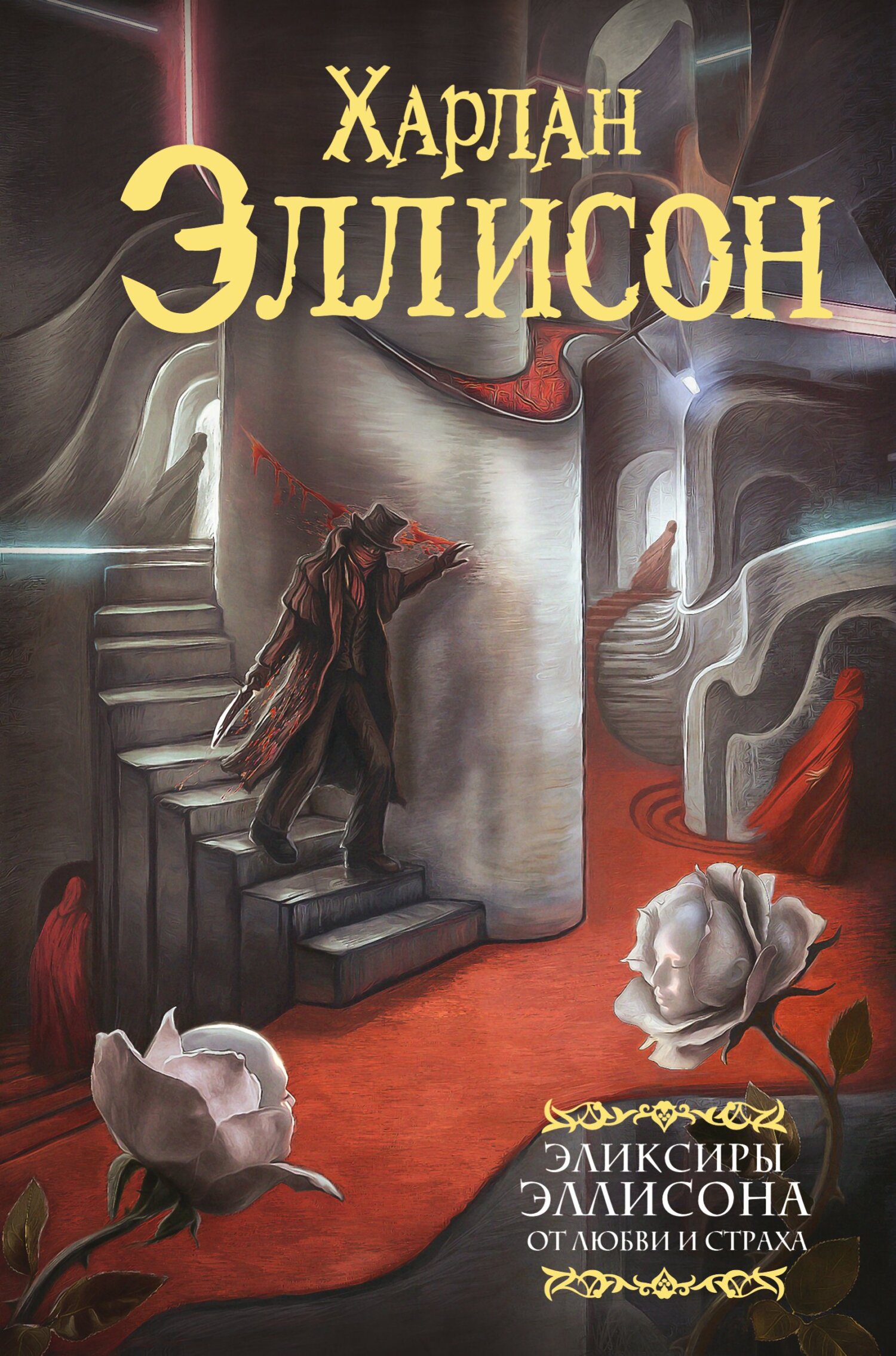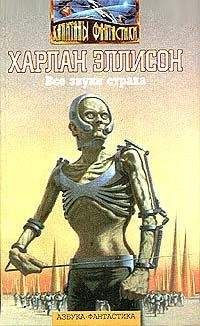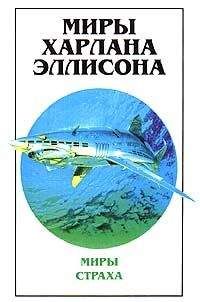сторону третьей порции.
– Что ж, – произнес я с самодовольством человека, только что заманившего своего оппонента по пояс в зыбучий песок. – Князь Мышкин.
Это совершенно потрясло Майкла. Нет, правда, потрясло: он даже горчицы в хот-дог перебухал. Потрясенный, он убрал излишек бумажной салфеткой; все еще потрясенный, он протянул хот-дог мне.
– Ну… да… разве что Мышкин… – бормочет он, пытаясь восстановить интеллектуальное равновесие. – Да, этот обращался с женщинами пристойно… но он же идиот!
Тут на другом конце стойки чувак семь на восемь, сутенер, который стоит там с пятеркой подопечных девушек, начинает выкрикивать что-то насчет пархатых жидов, сионистская ненависть которых к уроженцам Третьего Мира не дает ночным труженицам восстановить силы после тяжелой работы.
– Но… себя-то Достоевский идентифицировал с образом мучителя женщин… – он прерывается, чтобы направиться к тому концу стойки, по которому уже начинают грохотать черные кулаки.
– А образцом для него был Мышкин, – бросаю я ему в спину. – Есть, знаешь ли, мужчины, с которыми женщинам повезло!..
Он поднимает перепачканный чили палец, чтобы зафиксировать эту точку дискуссии, и спешит утихомирить толпу линчевателей.
Пока он разбирался с ними, я оглянулся на Ла-Бри авеню. В ярком свете уличных фонарей я увидел этого типа – он стоял на тротуаре перед «Федерейтед стерео», вырядившись в костюм цвета ванильного пломбира, бледный как щека героини дамского романа, с личиком вороватой крысы под стильной шляпой-борсалино, поля которой бросали тень на его левый глаз. Вроде как безукоризненно стильный и все же весь какой-то дерганый. И вот, пока я стоял в ожидании возвращения Майкла, чтобы объяснить-таки ему, как везет с некоторыми мужчинами женщинам, этот бледный как пепел призрак сходит с тротуара, смотрит налево, смотрит направо, нет ли машин, а также тайфунов, сирокко, пассатов, мелтеми, хамсинов, муссонов, не говоря уже о внезапно падающих тяжелых объектах. И вот, пока я стоял так, он перешел Ла-Бри, ступил на тротуар прямо перед заведением Пинка, и вот он уже облокотился о стойку рядом со мной, едва не касаясь локтем моего рукава, и сдвинул на затылок свой борсалино, чтобы я мог лицезреть его странные темные глазки на странном, темном, диковатом, но при этом не лишенном привлекательности личике, и вот что он мне говорит:
– Ладно. Такие дела. Разуй уши и слушай.
Первая девушка, в которую я втюрился, была та черноволосая красотка, что жила в квартале от меня, когда я еще в школу ходил – в Коншохокене, штат Пенсильвания. Ей исполнилось шестнадцать, мне – семнадцать, и у ее папаши был яблоневый сад. Круто, да? Целый гребаный яблоневый сад. Это вам не Судеты. Ну, все одно, он мнил себя аристократом, а мой старик, он вкалывал в Кутцтауне. Короче, сбежали мы с ней. Добрались аж до Юнис, штат Нью-Мехико. Пешком, на попутках, так и этак, спали под открытым небом, а то и под дождем, она слегла с пневмонией и померла в больнице в Карлсбаде.
Я потрясен. Я сокрушен. Да что там, я в полном раздрае.
Ну, я сам не знал, что делаю. Завербовался на корабль, что шел в Кулун. Так не успел сойти на берег, как напоролся на девицу по имени Апельсиновый Цвет. Ну, то есть, я даже не спрашивал. Может ее звали Сунь Юнь Синь, почем мне знать? Я ей понравился, она – мне, вот мы и отправились поразвлечься… ну, сам понимаешь. Это ж круто, когда двое юнцов… ну, конечно, расовое смешение, Запад с Востоком, все такое, ну и что? Круто, да и весь сказ, и ведь мы тут толкуем об том, чтоб слить дурные воспоминания, так? Я был с ней нежен, она к невинному юноше тоже питала уважение, и все было зашибись, пока мы не дошли до улицы Трех Нефритовых Шкатулок, или как там ее, где находилось уютное местечко, которое нам посоветовали, и тут на нас налетает какой-то психованный торчок, которого вштырило так, что он сначала укокошил жену и троих детишек, а потом выскочил на улицу, размахивая кукри – ну, сам знаешь, такой тесак, с которым непальские гуркхи воюют и охотятся – и протыкает им насквозь эту лапулю по имени Апельсиновый Цвет или как ее там, так что вот она лежит у моих ног в луже крови, а этот псих убегает с криками по улице Трех Нефритовых Шкатулок или как ее там.
Ну, вот я и говорю. Я весь раздавлен. И в голове помутилось. Стою на коленях и вою от горя, а что еще тут поделаешь?
Короче, отвезли меня обратно в Америку приходить в себя, и положили в госпиталь для ветеранов войны, хоть я и не ветеран никакой, но тут дело такое, видишь ли, они там решили, что гражданский флот все равно флот. Ну, короче, я там и трех дней не пролежал и познакомился с конфеткой по имени Генриетта. Голубоглазой блондиночкой с фигуркой что надо, такой всей из себя теплой и ласковой.
Ну, и она на меня тоже запала – видела ведь, что мне нужен курс лечения на бульончиках и грелках, вот она и проскальзывала ко мне в палату, пока охранники дрыхнут, и сразу ко мне под одеяло. Короче, втюрились мы друг в друга, а как я на поправку пошел, стали выходить в пиццерию, там, или в киношку на детский сеанс. А как мне подошло время выписываться, она и говорит, переезжай, мол, ко мне, так нам обоим лучше будет. О’кей, говорю, о чем речь, я только за. Ну, переехал я к ней со всем своим барахлишком, и не проходит и трех недель, как она садится в автобус № 10 до центра, дверь защемляет ей левую ногу, и автобус волочит ее за собой полквартала, пока до шефа не дошло, что стук, который он слышит – это ее голова колотится о мостовую.
И остался я съемщиком четырехкомнатной квартиры в Сан-Франциско, и ты скажешь, что это ведь классно, при нынешнем-то напряге с жильем, но поверь мне, приятель, без любви даже Тадж-Махал покажется задрипанной меблирашкой. Да и не мог я там оставаться весь в развале, раздрае, нюнях и соплях.
Знаю, знаю, не стоило мне этого делать, но так уж вышло, что я спутался с женщиной старше меня. Ей шестьдесят один, мне двадцать, и ради меня она готова была на все! Да ладно, сам знаю, что это все равно что извращение, но я тогда мало чем от калеки отличался, так? Все равно что птенец с перебитым крылом. Очень мне тогда ласки не хватало, чтоб в себя прийти, а она оказалась все равно что лекарством…