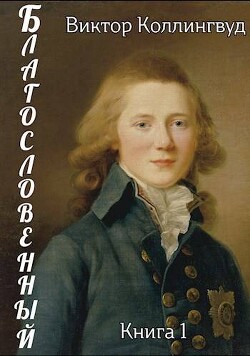— Шутить изволите, Ваше высочество? Прекрасно: это знак, что вам полегчало! Ну, разрешите отрекомендоваться: Протасов, Александр Яковлевич, кавалер, при особе вашей состоящий, ко всем услугам!
И, шутливо-ёрнически поклонившись, аккуратно поставил подсвечник на низкий столик.
— Игнатьич сейчас прибудет, Ваше высочество, а вы пока извольте умываться и пройти до известных мест. И помните, Ваше высочество, что говорилось вам по поводу рук!
Странный тип удалился, негромко, но отчётливо стуча башмаками по деревянному поскрипывающему полу.
Вслед за ним в комнату, неся в одной руке подсвечник, а в другой — перекинутой через предплечье какую-то одежду, деликатно ступая на носки, взошёл пожилой человек в странной старомодной одежде.
— Доброго утра, ваше императорское высочество! Как почивали? — поклонившись, спросил он приятным, каким-то немного заискивающим голосом.
Я сел в кровати, отметив себе, что она твёрдая, и, на ощупь, довольно-таки влажная. Откинув тяжелое одеяло, сделал при этом сразу несколько открытий: что ладони мои худы и тонки, как у подростка; что одет я в длинную ночную рубаху, а на голове — колпак со свисающей кисточкой; и что в комнате довольно таки прохладно.
Тот, кого первый из вошедших назвал Игнатьичем, был одет в белый, распахнутый спереди кафтан, унизанный двумя рядами крупных блестящих пуговиц; из-под кафтана виднелся красного цвета сюртук, а на ногах — белые чулки и панталоны.
— Изволите сами пройти, Ваше высочество, иль прикажете сопроводить вас? — тем же вкрадчивым тоном спросил он, вновь слегка кланяясь.
— Пройти куда? — не придумав ничего лучшего, тупо спросил я.
— Известно же, в уборную, умываться, обтираться, да в ретирадные комнаты заглянуть, Ваше высочество!
— Знаете что, эээ… Игнатьич, вы меня проводите до дверей, а там уж я как-нибудь сам!
Взглянув на меня в несколько изумлённо, слуга, однако же, заученно поклонился, и отворил мне дверь.
— Пожалуйте сюда!
Сунув ноги в красивые, крытые бархатом туфли, я встал с кровати, сразу же поняв ещё одну вещь — тело, в котором я оказался, принадлежит даже не подростку, а попросту мальчику! Я ниже всех на две головы: этому самому «Игнатьичу» я оказался ровнёхонько по грудь! А еще, кстати сказать, здесь не «прохладно», а нешуточный холод!
По тёмному и загадочному, как египетская ночь, коридору слуга проводил меня к «уборной», и распахнул высокую дверь. Ёжась и дрожа, тощим ужом я проскользнул внутрь.
Здесь было заметно теплее, а в настенных подсвечниках уже горело несколько свечей. Высоченные потолки в этом небольшом, помещении создавали непривычный эффект «колодца». На изящном, со старомодными гнутыми ножками, столике стояла бронзовая бадья, полная чуть теплой вода; в углу притулился рукомойник с чашей, полотенца, и ещё какая-то грубая ткань, а в глубине комнаты виднелась титанических размеров мраморная ванная и огромный шкаф. Слива для воды, как я понял, тоже не было — из рукомойника все стекает просто в ведро. Вот ведь, система…
Открыв дверку таинственного шкафа, вместо Нарнии я нашел в нём нечто, много более важное поутру — «отхожее место». Выглядело оно довольно-таки оригинально — деревянное, обитое крашенной кожей кресло, с отверстием в сиденье, где стоял вполне себе ординарный горшок. Надеюсь, меня не заставят его выносить!
Выходя из этого закутка (кажется, именно его и называют «ретирадным местом»), в зеркале я увидел себя. Ёлки-моталки! Худой пацан с вытянутым носом, серыми глазами и блеклыми бесцветными ресницами глядел на меня из не очень качественного, покрытого тёмными пятнышками, зеркала, едва возвышаясь из-за стола. А стащив дурацкий, как у Карабаса, ночной колпак с кисточкою, я увидел длинные, как у девчонки, светлые волосы, на которых висели самые натуральные папильотки!

До чего же ужасное ощущение — вглядываясь в зеркало, видеть совершенно чужое лицо! Шизофрения, да и только! Несколько раз я закрывал и вновь открывал глаза; затем начал гримасничать, шевелить бровями, надувать щёки, внимательно изучая в зеркале свою новую ипостась. Всё ещё не веря глазам, поднёс поближе к лицу одну из свечей, рассматривая нового себя — мальчика, только лишь подступающего к порогу юности. Трудно сказать, сколько бы я еще тупил у зеркала, но острый запах паленой щетины привел меня в чувство. Слишком смело орудуя свечкой, случайно я подпалил себе локон! Приняв во внимание, что в волосах у меня ещё и бумажки, явно способные неслабо полыхнуть прямо у меня на голове, я решил дальше не искушать судьбу и, сполоснув лицо и руки, (мыла, кстати, не было), покинул «уборную»
Игнатьич ждал меня у дверей. В коридоре уже сновали какие-то люди в одинаковой одежде — они зажигали свечи в массивных золочёных подсвечниках, щедро развешанных по стенам. Служитель в зеленом камзоле и обсыпанном пудрою парике ловко зажигал их, поднося к фитилям свечей огонёк на длинном шесте; в его сноровистых движениях чувствовался многолетний опыт такой работы. Увидев меня, этот немолодой, седовласый человек глубоко поклонился, чем смутил меня несказанно.
— Извольте пройти одеться, ваше высочество! — голос Игнатьича вывел меня из оцепенения. Пройдя в открытую слугою высокую дверь, я в задумчивости присел на свою высокую кровать. Только сейчас я начал потихоньку осознавать, что словосочетание «Ваше высочество» употребляется ко мне не просто так. Для окружающих меня людей всё это очень серьёзно!
Итак, меня ждали рубашка из тонкого приятного полотна («батистовая», как назвал её Игнатьич), белые нижние панталоны, шёлковые чулки, белый, с разноцветной вышивкой, короткий камзол со множеством пуговиц, галстук, выглядящий как тонкий изящно завязанный кружевной шейный платок; затем длинный, до колен, бордово-коричневый бархатный кафтан и, как назвал их Игнатьич, «кюлот», то есть верхние, в цвет кафтана, панталоны. Слуга хлопотливо помогал мне, выпутывал из волос дурацкие папильотки, завязывал галстук, чему я был несказанно рад: мне самому одеть всё это в правильном порядке мне ни за что бы не удалось. Тут, кстати, я рассмотрел, что слуги здесь не так уж стары, а то, что принято было мною за седые волосы, в действительности — тщательно напудренные парики.
Одевшись, наконец, я перестал дрожать от холода, но по-прежнему терзался в недоумении,— куда же я, в конце концов, попал?
Определенно, это Россия. Об этом говорил и архаичный, но узнаваемый русский язык, и темень за окнами, и холод; нетрудно догадаться было, что на улице сейчас стоит зима. Конечно же, это восемнадцатый век: пудреные парики и камзолы совершенно неоспоримо это свидетельствовали. Но вот что это все, в конце концов, значит? Кто я? Что за молодой человек во дворце, окружённый слугами, обращающимися к нему «ваше высочество»? Не просить же мне этого Игнатьича: «Любезный, скажите ради Бога, — как меня звать?» И что за дворец? И вообще, это реальность, или какой-то предсмертный бред?
— Александр Павлович, вы готовы?
Я и не заметил, как вновь в комнате моей появился господин Протасов.
— Сейчас придёт герр Бук, освидетельствовать ваше самочувствие, и, если ваше и Константин Павловича выздоровление подтвердится, то после завтрака мы возвратимся в Зимний дворец. Игнатьич, зови!
Слуга вышел в коридор, откуда донеслось:
— Карл Христофорович, прошу вас, входите!
На пороге комнаты появился невысокий улыбчивый господин в палевого цвета камзоле.
— Guten Morgen, Eure Kaiserliche Hoheit! Wie geht es meinem ehrenwerten Patienten?
Вот зараза, немецкого-то я не знаю от слова «совсем»!
— Александр, эээ, Яковлевич, о чём он меня спрашивает?
Лёгкая тень досады легла на лицо Протасова.
— Государь мой Александр Павлович, что ж вы дурачиться поутру решили? Вы же знаете немецкий изрядно?
Со стыдом я вынужден был признаться, что всё не совсем так, переходя невольно на архаичные обороты собеседника.