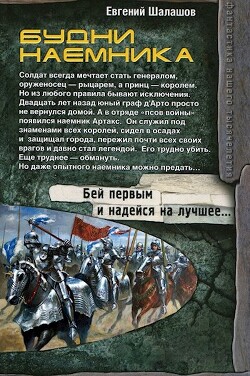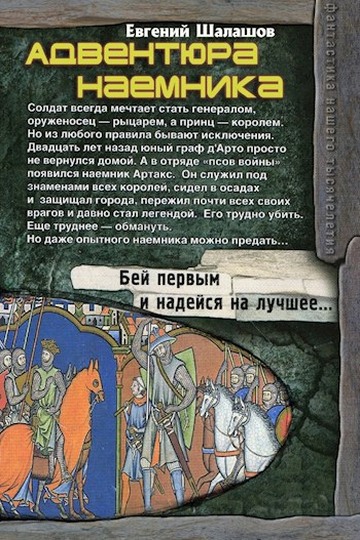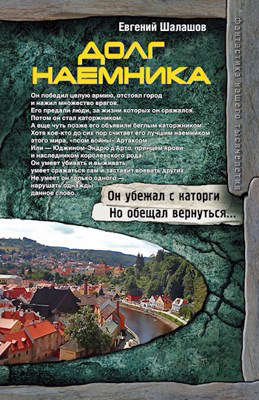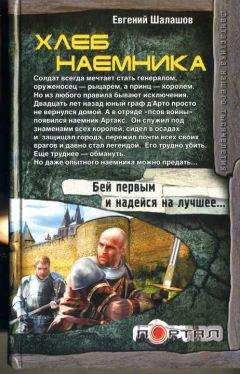— Ага, сейчас попробую, — кивнул я, потом спросил. — Дедушка, а ты меня не развяжешь?
— Не развяжу, — помотал головой старик. — Как думаешь, если бы мог развязать, не развязал бы? Конечно бы развязал. Мне что, жалко, что ли? Но вишь, тебя гномы увязывали, а они сами магии не подвластны, стало быть, их узелки тоже так просто не развязать. А я, как ты сам говорил, существо насквозь волшебное, зато мудрое. Говорю — сапоги сыми, легче будет. Эх, беда с тобой. Нет бы пользу какую приносил, а то сидишь тут, да извиваешься как червяк, а толку мало, а дома крышу не перекрыл.
Конечно, деду обязательно ткнуть меня носом в эту несчастную кровлю, хотя Кэйт говорила, что там все идет своим чередом.
Кое-как, но разогнулся обратно, сапоги снял и уже по новой, под чутким руководством домового, сумел-таки протащить связанные руки вперед. Фух, чуть не сломался в пояснице, едва не вывихнул локтевые суставы, кости трещат (или это штаны трещат по швам? Тогда хуже), все болит, но главное, что все получилось. Спереди-то сподручнее узлы распутывать. Может, зубами их?
— Вот и славненько, вот и умничка, — похвалил меня брауни. — У тебе в сапожке, случайно, ножичка нет? — Не дожидаясь ответа, дух дома потряс сапогом, вытряхнул нож и с удовлетворением закхекал. — Кхе-кхе, вот и ладно. Ну-кось, дай-ка ручонки свои.
Дедушка-доброжил с некой натугой разрезал ремни, а я принялся растирать онемевшие конечности. Не сразу, но восстановил кровообращение и тут до меня дошло.
— Дедуль, а ты почему сразу-то не разрезал?
— Хе-хе-хе, — дробненько захохотал домовой. — Так вишь, я же старенький, из головы вылетело, что можно было сразу разрезать, да и ты мог бы про нож-то сказать.
Старенький он, видите ли... Я тут корячился, извивался, словно змея, менявшая шкурку, а ему хиханьки. Нет, дед определенно решил надо мной снова поиздеваться. На ум пришло ругательство, услышанное недавно — для доброжила оно прекрасно подходит, потому что если мой домовой и не «ёшкин оползень», то «оползень ёшкин», это точно. Но вместо того, чтобы выругать старика, прислушался к ожившему брюху и попросил:
— Дедушка, а ты мне чашечку кавы не сотворишь? А если корочку хлеба раздобудешь, с чем-нибудь вкусненьким — так век тебя благодарить стану.
— Эх, и чего я с тобой связался? — вздохнул домовой. — Есть же хозяева путные, так нет, навязался тут на мою голову. — Взмахнув рукой, вздохнул. — Ну, коли связался, так и деваться некуда.
Старичок исчез, вместе с ним пропало свечение, поэтому пришлось искать сапоги наощупь, потом шарить по полу, отыскивая нож. Не утерпев, пошел исследовать дверь камеры. Исследовал, ну и что? Дверь деревянная, сплошная, прочная. Жаль, нет внутреннего замка, попытался бы его открыть, а внешняя задвижка куда надежнее для тюремщиков.
Пока шарил в потемках, явился мой домовой, или, его уже пора называть «хранитель»? Нет, подожду, а вдруг старику не понравится. Вручая мне чашку с кавой, доброжил, от присутствия которого в камере сразу стало светлее, сказал:
— Вот, туточки лепешки с сыром, горячие, ты лучше с них и начни, остынут, станут невкусными.
— Ум-м... — закивал я, хватая лепешку и, немедленно отправляя в рот солидный кусок.
— Да не спеши дурачок, никто не отымет, — ворковал старичок, словно дедушка, к которому явился в гости любимый, но непутевый внучок.
— А-мм-ням, — согласился я, дожевывая первую лепешку и ухватывая вторую. Не знаю, как сложится мое пребывание здесь, останусь ли жив, но сейчас дедушка-домой снова спасает мне жизнь.
Умяв все лепешки, что притащил мне добрый старик, выпив каву, почувствовал, что ко мне возвращается и хорошее настроение, и желание сделать что-нибудь эдакое, важное.
— Чашку верни, —потребовал домовой. — Ишь, ручонки-то загребущие, а мне посуду на место вертать.
— Виноват, задумался, — повинился я, вручая брауни чашку, которую и на самом деле хотел оставить при себе. Мало ли, для чего она может понадобиться? Да тот же светильник соорудить.
Пока доброжил не исчез, осмотрел камеру. Примерно десять футов в длину, шесть в ширину. Высота — чуть больше шести футов. М-да... Кажется, откуда-то сверху идет приток свежего воздуха. Послюнив палец, проверил. Да, есть небольшое отверстие, из него и тянет. Поднявшись на цыпочки, потыкал в дыру ножом, пытаясь определить толщину стены, не получилось.
— Камень тута сплошной, не одолеешь, — сообщил домовой, хотя я и сам о том догадался.
Верно, камеру вырубили в толще скалы. Спрашивается, кому понадобилось так мучиться, чтобы обустраивать темницу? Или здесь было что-то другое? Плохо, что нет ни соломы, ни тряпок, пусть бы и с блохами. На насекомых плевать, зато помягче.
— Ежели, что нужно будет, позови, — строго сказал доброжил. — Я тебе о том уже сто раз говорил, а тебе, дубине, хошь кол на башке теши, все забываешь. Тебе что, трудно сказать: «Дедушка-домовой, приди, помоги!»?
— Да мне не трудно, — промямлил я. — Стесняюсь я что-то тебя тревожить...
Каюсь, про стеснительность я соврал. Ну что поделать, если до сих пор сомневаюсь в существовании домовых?
— Стесняется он... — хмыкнул брауни. — А мне, думаешь, легко каждый раз, когда ты во что-то вляпываешься, тебя искать? Нет бы позвал, тогда проще было. Говорю, что ты балда, балда и есть, хотя и графом стал.
— Так графом-то я давно стал, еще когда родился, — усмехнулся я.
— То, кем ты у себя был, нас не касается, — отмахнулся брауни. — По вашу сторону гор дикий народ живет.
— Почему это дикий? — обиделся я за свою историческую родину.
— А кто в душу дома кувшином кинул? — взъярился брауни. — А кто потом старика на брудершафт звал пить?
— А что, рыцарь фон Шлангенбург до сих пор со своим домовиком не помирился? — развеселился я.
— Я ж говорю, дикий твой народ, а особенно рыцари, — махнул рукой доброжил. — Шлангенбург по всему дому блюдечки с молоком да с простоквашей расставил, пироги разложил, сам на службу ушел, а слугам запретил в комнаты заходить. Но кошкам с мышками не прикажешь, чтобы они в рыцарские покои не входили, верно?
— И что дальше? — полюбопытствовал я.
— А то, что пришлось полы подметать, да еще и лужи засохшие оттирать. Вот, его доброжил опять дуется.
М-да, бедный рыцарь. Старается, мучается, а все зря. Эх, мне бы его заботы.
— Ладно, тебе это неинтересно, — вздохнул брауни. — Скажи-ка лучше, что дальше-то собираешься делать? Меня не проси — ничем помочь не смогу, разве что кавы с лепешками притащу. Нет у меня сил, чтобы тебя из узилища вызволить, я даже дорогу на волю подсказать не смогу. Там, где тебя нет, я бессилен.
По какому-то наитию, я взял в ладони маленькую руку домового и погладил ее.
— Дедушка, так это лучшая помощь и есть. Я без тебя бы уже не один раз пропал.
— Ишь, внучок выискался, — фыркнул брауни, вытаскивая руку, но чувствовалось, что старику приятно. — Дык ты мне так не сказал, чего дальше-то делать станешь?
Мне бы еще и самому неплохо знать, а что дальше делать? Вот, если бы я на свободе был, это одно, а в тюрьме, так совсем другое.
— А хрен его знает, — пожал я плечами. — Тут, дедушка, не все от меня зависит... Посижу тут, присмотрюсь, принюхаюсь, а там, как пойдет.
— Да, внучок, правильный у тебя план, дельный, да другого-то и не будет, — вздохнул доброжил.Покачав головой, самокритично добавил. —И я хорош, спрашиваю у арестанта, про что тюремщиков надо спрашивать. Подожди-ка, — забеспокоился вдруг старик. — А что тюремщики скажут, когда увидят, что ремешки-то разрезаны?
Да, действительно. Мне отчего-то вспомнилась каторга и «медвежатник», умудрившийся сломать замки на кандалах, но так, чтобы это было незаметно со стороны.
—Дедушка, а не поможешь «обманку» соорудить?
— Обманку? — не враз и понял старик, но, когда понял, принялся ловко разделывать перерезанные пути, некогда бывшие куском перевязи, раскраивать их, словно заправский портной и скоро у нас оказалось нечто, напоминающее два разделенных крыла бабочки. Теперь я мог продеть руки в каждое «крылышко», завести их за спину, соединив ремешки и, со стороны, путы казались цельными.