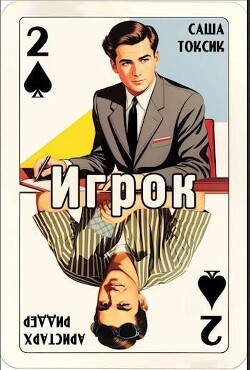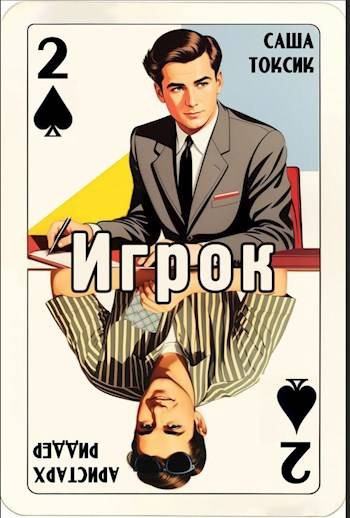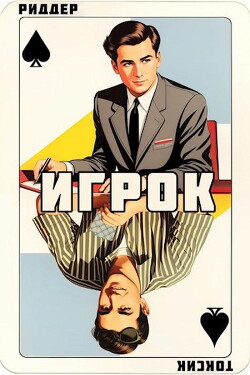Сама она всего этого не видела, но известие о моём триумфальном появлении быстро разнеслось по больнице.
Я же благодаря этому удостоился сомнительной радости получать уколы от Танечки без очереди.
Она так и говорила скопившимся у процедурного кабинета пациентам: «Ей, расступитесь, герой идёт! Снимай портки, герой!». Стоит отметить, что рука у неё была лёгкая.
Сам я последствия ранения не чувствовал. Только некоторое неудобство, оттого что перевязана рука. Если бы не был дураком и попросил перевязать сразу, то ничего подобного не случилось бы. А так, на эмоциях даже не заметил, что кровь течёт.
Больница, в которой я очутился, своим видом больше напоминала санаторий. Старинное здание с лепниной, легкомысленные балкончики, на которые нам выходить не разрешалось.
Напротив окон размещался сад с аккуратно подстриженными кустами, дорожками и лавочками, но нас и туда не пускали. В больнице был установлен карантин по ОРВИ, объяснили мне соседи.
По этой же причине были запрещены любые посещения. Это тяготило меня больше всего. Больница словно вырвала меня из бурного потока жизни и поместила в информационный вакуум.
Для меня до сих пор оставалась непонятной ситуация с Аллой. В момент пробуждения и свойственного похмельному синдрому чувству вины я ей безоговорочно поверил.
Но теперь, имея более чем достаточно времени на раздумья, я снова и снова прокручивал в голове злополучный вечер, и у меня появлялось к нему всё больше вопросов.
К примеру, с чего я вообще напился? Имея для своего возраста достаточно богатое писательское прошлое, а именно опыт банкетов, дружеских посиделок, сабантуев, юбилеев, командировок, награждений, поминок и даже запоев, я мог совершенно точно сказать, что умею держать удар.
То есть пьянею не быстро, а выпив, сохраняю рассудок.
Да и не планировал я в этот вечер ничего отмечать. И вообще, игру с возлияниями никогда не смешивал. А тут накидался до бессознательного состояния буквально за час в компании посторонних, по сути людей, да ещё и будучи при деньгах. Можно, конечно, вспомнить, как моё бесчувственное тело загрузили в поезд и отправили в Крым, но там я и правда был в полной отключке.
А здесь, по словам Аллочки и её соседей, наоборот, вполне функционировал, да ещё и весьма активно.
Да и тон моей помощницы, сладкий до приторности, при этом торжествующий прямо намекал на то, что она этому исходу рада.
А если так, то не была ли она тому причиной? Чисто теоретически, могла же она подкинуть мне в стакан что-нибудь вроде клофелина?
Запросто. Я её не в церковном хоре нашёл, а в качестве «подсадной» у жуликов и аферистов. Так что подобные фокусы могут быть ей вполне знакомы. Доказательств, конечно, нет. Но и списывать такой вариант до конца нельзя. В её поруганную мной невинность я уж точно не верю.
Переживал я также из-за Насти. После дачи мы договорились о встрече, но попасть на неё я теперь не мог.
Настя знала, в какой гостинице я живу. Если она будет искать меня там, то представляю, какую историю ей расскажут. Что лежу я в реанимации, между жизнью и смертью.
А я ей даже ничего сообщить не могу. У неё дома телефона нет, а на улицу меня не выпускают.
— Эй, Михаил, — выдёргивает меня из раздумий голос, — опять твоя пришла, может, выглянешь?
— Не пойду, — отвечает Михаил, мой сосед по палате, — ни к чему это.
Михаилу слегка за сорок. Он невысокого росточка, зато с пышными усами, как у Бармалея из мультфильма.
Голова у Михаила замотана бинтом, так что наружу торчат только глаза, нос и усы. «Бытовая травма», — уклончиво поясняет он.
Михаил весельчак и балагур. Работает водителем, развозит хлеб по магазинам и кажется абсолютно счастливым человеком.
Меланхолия накатывает на него только во время визитов супруги. Это высокая, статная женщина в красном импортном плаще. Каждый день около пяти часов вечера она появляется около больничной ограды и не меньше часа смотрит на наши окна, надеясь, очевидно, увидеть своего супруга.
Всего нас в палате четверо.
Ещё присутствует седоусый старик Василий Петрович, которого все зовут не иначе как «Дед». Дед пострадал по пьяному делу. Выпивал с соседом, полез в погреб за продолжением и подвернул на лестнице ногу.
В больнице он лежал давно и прославился на всё отделение своими попытками стырить из процедурного кабинета медицинский спирт.
В своей ограниченной подвижности, ему это до сих пор не удалось.
Так что он подбивал на это дело четвёртого пациента — рыжеволосого студента-второкурсника Женьку.
Женька со своими приятелями определённо опередил время. В будущем он мог стать спортсменом-экстремалом, но сейчас был обыкновенным оболтусом.
В компании таких же оболтусов, как он сам. Женька планировал спуститься с горы Аюдаг внутри винной бочки.
По счастью, для экспериментов они выбрали не вершину, а относительно пологий склон. Пробные запуски бочка выдержала. Первый заезд с пилотом на борту по жребию достался Женьке.
Он красочно рассказывал нам, как забрался внутрь, надев на голову строительную каску, «чтобы башку не разбить», и как внутри бочки пахло коньяком.
На этих словах Дед неизменно шмыгал носом.
Башка у Женьки уцелела. Когда бочка рассыпалась на полпути, он всего-то сломал ключицу. Женька сетовал, что бочка им досталась ветхая, и планировал непременно повторить свой подвиг, когда им удастся достать более прочный транспорт.
* * *
На третий день моего пребывания в больнице коварный план Деда достиг цели. Он считался «неходячим», поэтому уколы получал прямо в палате. Но на этот раз Дед попёрся к процедурной, с трудом переставляя костыли.
Далее всё было разыграно как по нотам. Как только Женька получил строго отмеренную дозу лекарства себе в пятую точку, он чуть замешкался внутри кабинета.
И в этот момент снаружи раздался грохот. Дед, жертвуя собой, картинно рухнул на пол, разбросав костыли по всему коридору.
Медсестра, естественно, выскочила наружу, а Женька, дурея от собственной наглости, положил в карман флакон спирта и, пользуясь общей неразберихой, вернулся в палату.
Дальнейшее священнодействие занимает несколько часов. Дед, в одному ему ведомых пропорциях, разводит спирт водой, бормоча про заветы Менделеева, которому, известное дело, Нобелевскую премию дали за формулу водки, а не за никому не нужную таблицу.
Затем неведомо откуда добытую литровую банку рыжий студент контрабандой проносит в туалет, где она остывает до нужной кондиции в одном из смывных бачков.
До самого отбоя дед сидит, как на иголках, опасаясь, что кто-нибудь из посетителей туалета чутьём догадается, какое сокровище скрывается рядом с ним.
Наконец, священный Грааль оказывается в палате. Мужики садятся в круг. На газете раскладывают запасённые с ужина куски хлеба и котлеты, а банка с разведённым спиртом идёт по рукам.
— Писатель, будешь? — спрашивает дед таким тоном, что становится понятно, отказывать ему сейчас, значит плюнуть в душу.
Так что я касаюсь губами края банки и делаю крохотный глоток. Внутри тут же вспыхивает огонь. Формула Деда, в отличие от Менделеева, явно подразумевает не сорокоградусная крепость.
Отламываю корку хлеба, вдыхаю её ржаной запах и кидаю в рот под одобрительное хмыканье местного аксакала.
Студент, когда очередь доходит до него, с непривычки пучит глаза и пытается ухватить котлету, за что получает по рукам:
— Хватит жрать закуску!
Подвыпивший Михаил решается, наконец, рассказать нам историю своей «бытовой травмы». Оказывается, он полез на приставную лестницу вешать картину на стену. Жена предложила помочь, но мужчина отказался.
А тут лестница возьми да и соскользни. Михаил вместе с ней грохнулся прямо на новенький телевизор.
— Об телевизор башку разбил? — спрашивает студент.
— Нет, — поясняет Михаил, — телевизор я просто так разбил. Но тут жена с кухни на шум прибежала, а у неё в руках как раз сковородка была…