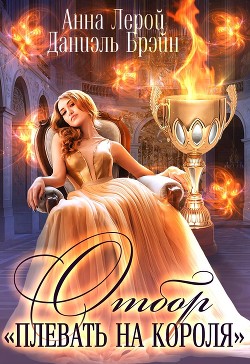кроватке, сдернула одеяльце, и я едва не вырвала его и не огрела ее по щекам. — Спать бы шла, завтра поклонный день, пощадила бы себя, барыня-матушка!
Не мытьем, так катаньем старуха стремилась вернуть все на круги своя, но я приподняла малыша, жестом приказала старухе вытащить из кроватки мокрое. Мальчик был тяжелый, старуха без всякого притворства озабоченно начала выговаривать, что мне поднимать его самой негоже, я же повернулась и положила его в кроватку к сестре. Места было достаточно, и плевать, дозволено ли то приличиями и традициями, а если я разбужу ребенка, то вряд ли смогу потом уложить.
Бережно, выверяя каждое свое движение, я сняла с сына мокрые штанишки и дождалась, пока старуха принесет то, что я требовала. Она то ли страдала провалами в памяти, то ли прощупывала пределы моего терпения, но ограничилась только чистым одеяльцем — я погрузилась в дзен и прикинулась, что удовлетворена. Дети от нашей возни не проснулись, немного покряхтела девочка, но, как мне показалось, вдвоем с братиком она стала спать поспокойнее.
Я пощупала грудь. Молока нет, но это, наверное, абсолютно нормально. Хорошие новости — я кормящая, стало быть, с большой вероятностью не беременна пятым. Что я еще о себе знаю? У меня отменное здоровье, родить в эту эпоху четверых, да еще практически подряд, это выигрыш в лотерею. А плохие новости? Я совершенно теряюсь в быте. Я уже чуть не подожгла дом, поэтому я затушила свечу и, прикрыв дверь, легла на узкое жесткое ложе.
Сон не шел. В соседней комнате копошилась старуха и не желала уходить, и, поразмыслив, я не стала подниматься и гнать ее. В конце концов, мое поведение и так ее настораживает, и она пусть спустя рукава, своеобразно, нехотя, но свои обязанности исполняет. Ей приказано нянчить детей, она нянчит, а моя первая практика материнства прошла хорошо…
Мне хотелось встать и положить детей рядом с собой, обнять их, успокоить, утешить, но я сама с трудом помещалась на лавке и не могла повернуться. От родной матери малышей осталось тело — крепкое и молодое, а все остальное теперь это я, Вера Андреевна Логинова, миллиардер, предпринимательница, сэлфмейд, выросшая девочка из глубокой провинции, зубастая, наглая, циничная, хваткая. Отличный тандем уже потому, что я не позволю себя убить. Но кто и зачем все-таки мог пытаться?
Барыня уже легла спать, и некий Ефимка сообразил, что она угорела. Как он это понял? Довольно легко, если ему знакомы симптомы, пусть он не знает, что это за слово; почувствовав, что его тошнит, мутится зрение и пропадает слух, нарушается координация, он по печальному опыту поднял весь дом на уши и вытащил барыню на воздух. Там подоспела старуха — если это она закрыла заслонку, то она отводила от себя подозрения, приводя меня в чувство и надеясь, что в следующий раз уж будет наверняка.
Кто еще мог меня убить? Палашка? Возможно. Какой ей смысл?
Тишина спящего дома снова была разрушена пением и ксилофоном. Может, пастырь решил прикончить барыню? Лучший вариант — продать этот дом как можно скорее или сдать, а самой завтра же перебраться в квартиру, нанять адекватную няньку и ждать, кто и что предпримет дальше. Есть шанс, что когда до меня будет добраться сложнее, попыток убить меня больше не произойдет. Что не исключает того, что я буду искать, кто хотел оставить детей сиротами.
Мне надо выяснить, кто я и что могу. Судя по обстановке в доме, я не бедна, век не настолько дикий, у меня есть права, я не бессловесное приложение к мужу. Кстати, есть дети, а где тогда муж?
Напрашивался ответ — в гробу я его видала. Неизвестно, какой это был муж, как относился к жене и детям. Неизвестно, что он оставил мне в наследство… мог и долги, и обязательно нужно узнать, кому и сколько, и как можно скорее их погасить.
Я лежала, прислушивалась к дыханию детей и грустной мелодии ксилофона. Пастырь что-то напевал, на улице иногда скрипела телега и стучала размеренно копытами лошадь, гремели коротко кованые ворота, слышались голоса, и потом все стихало, и оставались дети, ксилофон и песня пастыря. Я сомкнула глаза — на секундочку, и проснулась от захлебывающегося, тихого, безнадежного детского плача.
Говорят сущую правду — мать способна на все. Никуда не исчезли боль в легких, тошнота и головокружение, от жесткого лежака сковало все тело, вот-вот оцепенение сменится жгучей болью от проходящего онемения, но я, ни секунды не медля, поднялась и подошла к близнецам.
Новый день лениво вползал в дом. За окном висела нудная серость, еле-еле дававшая свет, то ли туман, то ли оттепель лизали стекла, но свечи были уже не нужны. На улице ругались извозчики, издевательски ржала над кем-то лошадь, кто-то пробежал, стуча каблучками, и аппетитно звенела крынка молочника.
Девочка спала на спине, раскинув ручки, а ее братик лежал на боку, сложив ладошки, и безутешно, почти беззвучно плакал. Я со знанием дела сунула руку сквозь решетки — постелька сухая, что же тогда?
— Что случилось, солнышко? — прошептала я, присаживаясь на корточки и просовывая руку теперь уже так, чтобы погладить ребенка по голове. Он вздрогнул, будто я собралась его ударить, и из-за этого вздрогнула я. Если я сейчас обнаружу, что детей били… плевать, что у меня на конюшне, наверное, один Ефимка, потрудится, не помрет. Я пинком вколотила гнев обратно, чтобы не напугать малыша. — Скажи, что такое? Тебе приснился плохой сон?
Я продолжала гладить мальчонку уверенно и нежно, перебирала шелковистые волосы, и он постепенно затих и расслабился, а потом я увидела, как пухлые губки дрогнули в подобии улыбки.
— Что такое, счастье мое?
Может быть, он не говорит? Я пыталась восстановить в памяти вчерашний вечер и не могла. Сказал он мне хоть слово или нет?
— Мама…
Не реветь, Вера. Не смей реветь. Не реветь, даже если ты всю жизнь мечтала это услышать.
— Мама, вы всегда будете такой?
Что в этом чертовом доме происходило с детьми?
— Нет, мое сокровище, — я поднялась и мысленно отвесила себе оплеуху: с детьми нужно проще, яснее, понятнее. — Я обещаю, что с каждым днем я буду все лучше. Каждое утро я буду обнимать вас и целовать, гулять и играть с вами, а вечером укладывать спать и рассказывать сказки. А теперь иди-ка сюда…
Озадаченный мальчуган без сопротивления дался мне на руки — ого, какие же дети тяжелые!