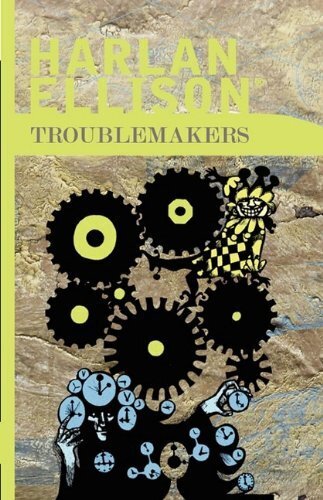горизонта за оградой, было видно ледяное сияние пульсирующего синего света. Такой свет в рефрижераторе — холодный, плоский.
Я взобрался на своего единорога, прижался к его шее, вцепившись в гриву обеими руками, прижав колени к его шелковистым бокам, которые теперь переливались светом и красками, и издал негромкое одобрительное шипение, тихую команд «вперед».
Мой единорог перемахнул через ограду и мы оказались на всемирно известном кладбище Сент-Луис.
Я спешился и поблагодарил его. Мы начали пробираться между надгробными плитами, склепами, усыпальницами.
Голубое свечение становилось все отчетливее. И теперь я мог слышать, как ветры несбыточной мечты поднимаются, кружатся, налетают. Ветры перехода. Пульсация света, завывание ветров, умирающая ночь. Мой единорог оставался рядом. Даже мы, обитатели мира духов, знаем, когда нужно бояться.
В конце концов, я рассчитывал только на свой шанс, я не был под защитой бога. Беззащитный, даже после смерти.
За исключением некоторых случаев зимой, в Новом Орлеане нет тумана. Но сейчас вокруг нас начал формироваться туман. Я вспомнил ту ночь, когда я умер. Тогда был туман. Я покончил с собой.
От меня ушла моя третья жена. Она ушла ночью, пока я был на деловой встрече с клиентом; меня наняли проектировать церковь в Батон-Руж. В тот день я отпаривал старые обои в квартире, которую мы снимали. Это должен был быть наш первый совместный дом. Я использовал деревянную стремянку, конденсатор пара. Под потолком стояла такая ужасная жара, что я чуть не упал в обморок. Она принесла мне свежевыжатый лимонад. Затем я принял душ, переоделся и отправился на свою встречу. Когда я вернулся, ее уже не было. Была записка.
Мы с Лизетт были двумя сторонами одной монеты, лишенные после смерти покоя, если разобраться, за одно и тоже преступление. Она никогда никого не любила. Я любил слишком многих, то есть, по сути, не любил никого. Чрезмерное баловство в чем-то столь деликатном, как любовь, считается чудовищно оскорбительным в глазах Бога Любви. И наказание для таких — болтаться между смертью и вечностью, имея всего один шанс исправить этот тоскливый ужас. Сегодня это может случиться. Сегодня или никогда.
Вокруг нас образовался туман, и мой единорог подобрался поближе ко мне, какой-то маленький, почти робкий. Мы двигались в сферы, которых он не понимал, где его ограниченная магия была бесполезна. Это были сферы могущества, настолько недоступные даже существам из зоны лимбо — таким, как мой единорог, — настолько совершенно чуждые даже странникам промежуточной зоны — Лизетт и мне, — что мы были так же беспомощны и ничего не понимали, как и те, кто живет. У нас было только одно преимущество перед живыми, дышащими, пока еще не умершими людьми: мы точно знали, что царства по ту сторону существуют.
Тот, кто дал мне шанс, дал шанс Лизетт, жил где-то в этих непостижимых сферах, и несомненно, наблюдал сейчас за нами. Туман клубился вокруг нас, холодный и вековечный, как пыль гробниц фараонов.
Мы двинулись сквозь туман, к пульсирующему центру голубого света. Там увидели Лизетт. Она лежала на алтаре из хрусталя, обнаженная и дрожащая. Вокруг нее стояли Они — высокие и прозрачные человеческие фигуры без лиц. Внутри их прозрачных форм клубился странный серебристый туман, похожий на дым от священных кадил. Там, где должны были быть глаза человека или призрака, были только тускло мерцающие отблески светлячков внутри, висящие в дыму, движущиеся, меняющие форму и положение. Глаз вообще не было. Высокие, очень высокие, они возвышались над Лизетт и алтарем.
Для меня, когда наступит рассвет без спасения, предстояла только вечность скитаний с моим единорогом в качестве единственного спутника. Призрак навеки. Благовонная несбыточная мечта, видимая как пылевой дьявол на горизонте, леденящая душу, навсегда ушедшая, невидимая, потерянная, пустая, беспомощная, блуждающая.
Но для нее, пустого сосуда, судьба была чем-то совершенно иным. Бог Любви позволил ей покидать ее каменную обитель лишь ночью, днем она была заперта в ней. Он дал ей последний шанс. И, поскольку она не смогла им воспользоваться, то была отдана этим существам… другого порядка… высшего или низшего, я понятия не имел. Но ужасным.
«Лагниаппе!»
Я выкрикнул это слово. Старое креольское слово, которое употребляют в Новом Орлеане, когда хотят чего-нибудь лишнего, какой-нибудь добавки; круассаны в придачу, еще несколько морковок, положенных в пакет для покупок, бо́льшую порцию моллюсков, крабов или креветок.
— Лагниаппе! Лизетт. Попробуй… потребуй это… еще есть время… ты получишь это по заслугам… ты заплатила… Я заплатил… это наше… попробуй!
Она села, ее обнаженное тело освещалось мерцающими огнями холодного голубого холода. Она села и посмотрела на меня, а я, раскинув руки, отчаянно пытался прорваться к ней через этот голубой свет, но он был для меня непроходим. Только девственницы могли пройти сквозь него.
И было видно, что Они не отпустят ее. — Им обещали хорошую кормежку, это было видно. Я заплакал, как плакал, когда, наконец, услышал, что сказала мать моей первой жены, и когда, вернувшись домой в пустую квартиру, увидел, что от меня ушла моя третья жена. Тогда я понял, что слишком много было в моей жизни женщин, но никто из них меня на самом деле не любил, вот разве что первая жена, и решил, что поскольку жизнь бессмысленна, то и продолжать ее не стоит.
Лизетт хотела пройти ко мне, я видел, что она хотела прийти ко мне. Но они хотели поужинать.
Затем я почувствовал морду моего единорога у своей шеи, одним махом он преодолел барьер, который был для меня непроницаем, и замер в ожидании. Лизетт спрыгнула с алтаря и подбежала ко мне. Все это произошло одновременно. Я почувствовала, как тело Лизетт прижалось к моему, и мы увидели моего единорога, стоящего там, в ожидая, когда на него заявят права, предлагая себя вместо Лизетт.
Я впервые