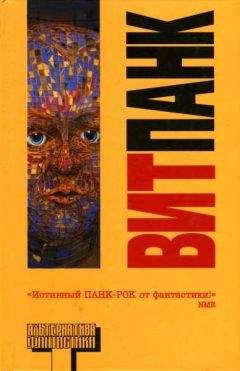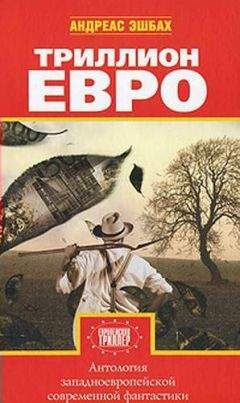— Отец Корнелиус Деннис Монэгэн, — произносит священник, следуя обычаю, согласно которому посетитель, входя в архиепископские покои, начинает беседу с того, что именует себя.
— Приблизься, отец Корнелиус Деннис Монэгэн.
Конни входит в кабинет, клацая ботинками по полированному бронзовому полу. Ксаллибос поднимается ему навстречу из-за своего стола — сверкающего куба черного мрамора.
— Чарльстонский приход занимает особое место среди моих привязанностей, — говорит архиепископ. — Что привело тебя в эту часть города?
Конни беспокойно переступает, двигаясь сперва влево, потом вправо, пока не видит отражение своего лица в образе святого Кирилла, размером с колпак от автомобильного колеса, украшающем грудь Ксаллибоса.
— Моя душа в терзаниях, ваше высокопреосвященство.
— «В терзаниях»… Веское определение.
— Я не могу найти другого. Дело в том, что в прошлый четверг я упокоил душу двухнедельного младенца…
— Окончательное крещение?
Конни разглядывает свое отражение. Оно изборождено морщинами; такое впечатление, что из него выпущен воздух, словно из воздушного шарика, купленного к давно прошедшему празднеству.
— У меня это восьмое.
— Понимаю твои чувства. Я сам после того, как отправил на тот свет моего первого бесплодного ребенка — у него не было левого яичка, а правое ссохлось без возможности восстановления, — не мог спать целую неделю. — Ксаллибос устремляет взгляд горящих, как расплавленные рубины, глаз прямо в лицо Конни. — Где ты посещал семинарию?
— На острове Денвер.
— А учили ли вас на острове Денвер, что фактически существуют две Церкви, одна из которых невидима и вечна, а другая…
— Временна и конечна.
— В таком случае вас учили также и тому, что последняя наделена властью пересматривать свои таинства, сообразуясь с велениями эпохи. — Взор архиепископа разгорается все ярче, все жарче, все чище. — Не сомневаешься ли ты в том, что нужды настоящего времени требуют от нас преждевременно приводить к бессмертию тех, кто не может обеспечить права незачатых?
— Видите ли, проблема в том, что у девочки, которую я обессмертил, была сестра-близнец. — Конни нервно сглатывает. — И мать унесла ее прежде, чем я смог произвести второе крещение.
— Как это — унесла?
— Убежала из церкви посреди таинства.
— Второе дитя столь же бесплодно, как и первое?
— Левый яичник — двести девяносто зачатков, правый — триста десять.
— Боже милосердный! — из нутра архиепископа исходит пронзительное шипение, словно от перекипающего чайника. — И что, она намеревается покинуть остров?
— Я всецело надеюсь, что нет, ваше преосвященство, — говорит священник, содрогаясь при этой мысли. — Скорее всего, у нее нет никаких непосредственных планов, кроме того, чтобы защитить свое дитя и попытаться…
Конни прерывает себя, напуганный внезапным появлением маленького, пухленького человечка в белом одеянии с капюшоном.
— Брат Джеймс Вулф, доктор медицины, — произносит монах.
— Приблизься, брат доктор Джеймс Вулф, — говорит Ксаллибос.
— Хорошо, если бы вы подписали это поскорее. — Джеймс Вулф вытаскивает из-под своей мантии лист пергаментной бумаги и кладет его на стол архиепископу. Конни украдкой бросает взгляд на отчет, надеясь узнать коэффициент плодородия ребенка, но цифры статистических данных написаны слишком блекло. — Священник, о котором идет речь, должен служить литургию… — поддернув спадающий рукав, Джеймс Вулф сверяется с наручными часами, — …меньше чем через час. А это в Бруклине, не ближний свет.
Подойдя большими шагами к столу, архиепископ выдергивает из подставки серебряную перьевую ручку и украшает пергамент своей знаменитой крючковатой росписью.
— Dominus vobiscum[9], брат доктор Вулф, — произносит он, протягивая тому документ.
Вулф поспешно выходит из кабинета, а Ксаллибос подходит к Конни — так близко, что ноздри священника наполняются лимонным ароматом архиепископского лосьона после бритья.
— У этого человека никогда не бывает никаких развлечений, — говорит Ксаллибос, указывая в направлении исчезающего монаха. — А какие развлечения есть у тебя, отец Монэгэн?
— Развлечения, ваше высокопреосвященство?
— Ты ешь мороженое? Следуешь за судьбами кельтов? — Слово «кельты» он произносит с твердой «ка», утвержденной Третьим Латеранским Собором[10].
Конни втягивает в себя обильную толику цитрусовых испарений.
— Я пеку.
— Печешь? Что печешь? Хлеб?
— Сдобу, ваше высокопреосвященство. Шоколадные пирожные, ватрушки с творогом, пироги. К Рождеству я испек пряничных волхвов.
— Замечательно. Я люблю, когда мои священники развлекаются… Однако послушай — в любом случае обряд должен быть совершен. Если Анджела Данфи не приходит к тебе, ты должен пойти к ней сам.
— Она снова сбежит.
— Может быть, так, а может быть, и нет. Я очень верю в тебя, отец Корнелиус Деннис Монэгэн.
— Больше, чем я сам в себя верю, — говорит священник, прикусывая изнутри щеки так сильно, что его глаза наполняются слезами.
— Нет, — говорит Кейт, в третий раз за эту ночь.
— Да, — настаивает Стивен, вдвойне наслаждаясь бедром Кейт под своей ладонью и ромом «Эрбутус», омывающим его мозги.
Зажав сигарету в одной руке, другой Кейт поглаживает лобик малыша Малькольма, убаюкивая его.
— Это порочно! — протестует она, кладя Малькольма на коврик рядом с кроватью. — Это преступление против будущего!
Стивен хватает бутылку «Эрбутуса», наливает себе еще стакан и, добавив необходимое количество «Доктора Пеппера», жадно отхлебывает. Он ставит бутылку обратно на ночной столик — рядом с загадочным цветком, который дала ему Валери Гэллогер.
— Плевать на незачатых! — говорит он, бросаясь в объятия жены.
В пятницу он показал цветок Гейл Уиттингтон, самой сообразительной из учителей средней школы Догерти, но ее вердикт не смог пролить света на этот вопрос. Это был Epigaea repens или «эрбутус ползучий» — растение, которое имело по меньшей мере два основания для гордости: оно служило государственной эмблемой Массачусетского архипелага, и оно же ссудило свое имя той самой марке спиртного, которую поглощает теперь Стивен.
— Нет, — снова говорит Кент. Она кидает сигарету на пол, приминает ее туфелькой и обвивает его руками. — Я же не овулирую, — объясняет она, просовывая свой жесткий и скользкий язык в его рот. — А твоя сперма не…
— Прошлой ночью Святому Отцу было ниспослано видение, — объявляет Ксаллибос с видеоэкрана. — Это были картины, взятые прямиком из охваченных пламенем владений Сатаны. Ад — это факт, друзья мои! Он так же реален, как мозоль на ноге.
Стивен сдергивает с Кейт сорочку не менее сноровисто, нежели отец Монэгэн, снимающий с ребенка крестильные одежды. Ром, несомненно, тоже играет немалую роль в их обоюдной готовности (по четыре стакана на каждого, лишь слегка разбавленных «Доктором Пеппером»), но и не беря в расчет «Эрбутус», они оба всецело заслужили этот момент. Ни тот, ни другая ни разу не пропустили литургии. Ни тот, ни другая ни разу не уклонились от таинства Внебрачной Связи. И хотя любой акт неплодородной любви формально лежит за пределами власти Церкви отпускать грехи, несомненно, Христос простит им их единственное отступничество. Они рьяно принимаются за дело — это стерильное единение, эта запрещенная неплодородность, это совокупление, из которого не сможет произойти ни одна душа.
— Гедонисты барахтаются в чанах с расплавленной серой, — говорит Ксаллибос.
Дверь спальни со скрипом отворяется. В комнату входит одна из средних детей Кейт, Беатриса — худенькая шестилетняя девочка с шелушащейся кожей; в ее руке самодельная игрушечная лодка, грубо выстроганная из куска коры.
— Мам, смотри, что я сделала вчера в школе!
— Мы заняты, — говорит ей Кейт, прикрывая наготу рваной муслиновой простыней.
— Тебе нравится моя лодка, Стивен? — спрашивает Беатриса.
Он шлепает подушку поверх своих чресел.
— Очень мило, дорогая.
— Возвращайся в кровать, — приказывает Кейт дочери.
— Онанисты утопают в озерах кипящей спермы, — вещает Ксаллибос.
Беатриса не сводит со Стивена своих впалых глаз.
— А можно, мы запустим ее завтра в Пасторском пруду?
— Конечно. Разумеется. Прошу тебя, иди отсюда.
— Только мы вдвоем, хорошо, Стивен? Без Клод, и без Томми, без Иоланды — без никого!
— Специальные свежевальные машины, — говорит Ксаллибос, — ошкуривают грешников, как спелые бананы.
— Ты хочешь, чтобы тебя выдрали? — закипает Кейт. — Именно этого ты сейчас и добьешься, милая моя — самой жестокой трепки за всю свою жизнь!
Дитя отвечает отработанным пожатием плеч и, надувшись, выходит из комнаты.