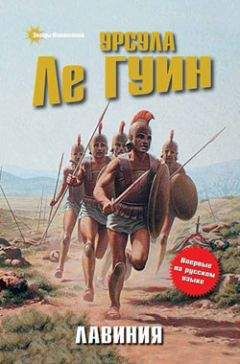- Я знаю, ты действительно так думаешь, Лаф, - сказала Джейн как-то неуверенно и очень печально. - Но ложь делает любовь бессмысленной. Она и наше с тобой супружество делает бессмысленным.
- Бессмысленным? Для тебя? - воскликнул он обвиняющим тоном, яростно сверкнув глазами.
- Ну хорошо, а что оно значит для тебя?
- Ты - мать моего ребенка!
- Ну и что? - она помолчала, затем со странным смешком согласилась. - Да, это по крайней мере действительно правда. - Она посмотрела на него: в ее взгляде была растерянность и мольба об искренности. - И ты - отец моего ребенка, Лаф! Но что дальше?
- Пошли, - сказал он, снова решительно беря ее под руку.
Она оглянулась - словно ей хотелось еще раз взглянуть на это крыльцо, на заросли, окружавшие старый дом, словно ей хотелось остаться здесь навсегда.
- По-моему, мы и так уже прошли на целый квартал дальше, чем нужно?
Он еще прибавил шагу; она старалась не отставать.
- Уже девятый час, - сказала Джейн.
- Да плевать мне на этот спектакль!
На углу он остановился и сказал, не глядя на нее:
- Твоя вера в меня - основа всей моей жизни. Основа всего. Разрушать эту веру, говорить, что мне... было бы удобнее, если бы тебя не было в городе и вообще - на моем пути, говорить, что...
- Прости, если я была не права.
- Если ты была не права! - язвительно, с горечью повторил он. Она промолчала, и он заговорил более мягким тоном:
- Я понимаю, что сделал тебе больно, Джейн. Очень больно. И мне нечем оправдать свое поведение. Я никак не извиняю себя! Да, я вел себя глупо, как последний негодяй, но мне очень стыдно! Мне будет стыдно до конца моих дней. Прости меня, пожалуйста.
Ах, если б только ты могла мне поверить! Мы бы оставили весь этот кошмар позади и все начали бы сначала.
Но если ты все время будешь возвращаться к этому, если ты не сможешь поверить в мою любовь, то я ничего не смогу поделать! Ну, кто виноват в том, что я не могу терпеть подобной неопределенности?
- Неужели я? - спросила она с искренним изумлением.
Он так сильно сжал ее руку, что она, помолчав, сказала:
- Лаф, отпусти. - Но он ее руку не отпустил, хотя хватку свою несколько ослабил.
Она посмотрела ему в лицо, освещенное бледным светом уличного фонаря.
- Мы действительно любим друг друга, Лаф. Но супружеская любовь даже теперь, когда у нас есть Лили, хороша только тогда, когда существует взаимное доверие. А если его нет?.. - Голос ее, становясь все более пронзительным, вдруг сорвался, и она вскрикнула, точно обрезавшись ножом, высвободила руку и обеими руками закрыла лицо.
Он стоял рядом с Джейн на узком тротуаре, встревоженно и неуверенно на нее глядя. Потом прошептал ее имя и коснулся своей рукой ее руки - осторожно, словно открытой раны.
Она быстро опустила руки, подхватила сползавшую с плеч белую шаль и, стиснув пальцы, скрепила ее на груди.
- Скажи мне, Лаф. Скажи честно: ты действительно считаешь, что имеешь право делать то, что тебе хочется?
Помолчав, он сказал мягко, но очень спокойно:
- Мужчина всегда имеет право делать то, что ему хочется. Это так.
Она посмотрела на него даже с неким восхищением:
- Хотелось бы мне быть такой женщиной, которая способна с этим мириться!
- И мне бы тоже очень этого хотелось! - воскликнул он шутливо, но в его голосе слышалось страстное желание. - Ах, Джейни, просто скажи, чего именно хочешь ты?
- Я думаю, что самое лучшее для меня - уехать на север, домой.
- На все лето?
Она не ответила.
- Хорошо, я приеду в сентябре.
Она покачала головой.
- Я приеду в сентябре! - повторил он.
- Нет. Я вернусь сюда сама - когда захочу! И.., если захочу!
Некоторое время они молча смотрели друг на друга; оба, казалось, были потрясены неожиданным взрывом ее гнева. Она обхватила себя руками под тонкой шелковой шалью, чтобы согреться. Легкая бахрома трепетала на ветру, несущем клочья тумана.
- Ты моя жена, и я приеду к тебе, - сказал он спокойно и твердо.
- Я не твоя жена, если для тебя жена - просто одна из принадлежащих тебе женщин!
Слова прозвучали фальшиво, точно отрепетированные заранее.
- Пойдем. Пойдем домой, Джейни. У тебя это уже превращается в идею фикс. И ты совершенно себя измучила. Пойдем. Зря мы сегодня собрались в театр. И ты, я надеюсь, не станешь устраивать мне спектакль прямо здесь? - Его красивое молодое лицо побледнело и выглядело страшно усталым. - Ты вся дрожишь, - сказал он и с искренней заботой обнял ее за плечи, стараясь покрепче прижать к себе, укрыть от ветра. А потом они двинулись в обратный путь по тем же улицам, по которым пришли сюда, и брели медленно, словно сросшиеся сиамские близнецы.
- Я ведь не лошадь, Лаф, - сказала она наконец, когда они прошли уже два квартала.
Он наклонился и, недоумевая, заглянул ей в лицо.
- Ты обращаешься со мной, как с Роани, когда она пугается стада коров. Успокаиваешь, говоришь всякие милые глупости, поворачиваешь домой...
- Не упрямься, Джейни.
Она промолчала.
- Я хочу обнимать тебя, защищать. Заботиться о тебе. Ты очень дорога мне и очень мне нужна! Ты - средоточие моей жизни. Но почему-то любые мои слова и поступки ты в последнее время переворачиваешь с ног на голову. У меня такое ощущение, что я уже и не могу ничего ни сделать, ни сказать так, как надо.
Он по-прежнему обнимал ее, и она чувствовала, как льнет к ней его тело, но рука его, лежавшая у нее на плече, казалась какой-то негнущейся, тяжелой, неживой..
- Мое единственное достояние - это уважение к себе, - сказала она. - И ты в значительной степени помог мне его обрести. Ты был как бы его частью. Лучшей его частью. Я так тобой гордилась! Теперь это все в прошлом. Мне пришлось отказаться от этого. Но больше я ни от чего отказываться не намерена.
- Господи, Джейн, я в который раз уже спрашиваю: чего же ты хочешь? Скажи ради бога? Ну что мне сделать?
- Играй честно.
- Что ты хочешь этим сказать?
- Ты и сам знаешь, что значит играть честно.
- А разве ты сама честно играешь, сводя меня с ума своими намеками, подозрениями и обвинениями? Это твое самоуважение так проявляется?
- Салли Эджерс, - прошептала она, словно стыдясь произносить это имя.
- Что? - довольно спокойно переспросил он и вдруг остановился. И сразу от нее отодвинулся. Потом довольно долго молчал и наконец сказал почти беззвучно:
- Я не могу с этим жить! Ты просто загнала меня своей ревностью, бесконечной слежкой, какими-то пробными, тренировочными скандалами, которые ты устраиваешь во имя своей победы надо мной. Я всегда считал, что ты достаточно великодушна.
Услышав это слово, Джейн поморщилась; ее лицо в туманном свете фонаря выглядело усталым и осунувшимся.
- Я тоже, - сказала она.
И почти сразу быстро пошла вперед, зябко кутаясь в шаль. Пройдя несколько шагов, она оглянулась. Он так и не сдвинулся с места. Она остановилась.
- Ты права, - сказал он негромко, но отчетливо, чтобы она хорошо его расслышала. - Это и впрямь бессмысленно. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь, так что поступай, как знаешь!
Он повернулся и решительно зашагал прочь; звук его шагов вскоре затих вдали, а она все стояла и смотрела ему вслед, словно в нерешительности. Его стройная фигура с гордо поднятой головой вскоре почти слилась с темнотой и туманом, превратившись в неясное пятно.
И тогда она тоже повернулась и пошла - в другую сторону. Сперва неуверенно, оглядываясь назад, но туман все сгущался, превращая свет фонарей в бледные кляксы, а здания, фонарные столбы, лошадей, повозки и автомобили - в странные расплывчатые формы разной величины; люди же, человеческие фигуры вообще теряли свою форму и были больше похожи на привидения, так что не успела она перейти на другую сторону улицы, как совершенно потеряла мужа из виду. На Маркет-стрит уличные фонари горели ярче; дополнительный свет давали также фонари над каретами и автомобильные фары, и из полупрозрачной пелены то и дело выныривали вполне реальные человеческие существа, колеса карет, очертания автомобилей, создавая некую мешанину из движущихся форм и теней, и надо всем этим прекрасным и загадочным движением призраков как бы плыли звонкие голоса детей; дети кричали и звали кого-то, точно морские птицы. Война, кричали юные голоса, война, война!
ВИРДЖИНИЯ, 1971
Огромные комки, холмы, целые горные хребты - вот сколько пены выбрасывают на берег ноябрьские штормовые волны, а ветер потом разбрасывает эту пену по мокрому пляжу. Летя на гребне волны, пена кажется такой белой, светящейся, но, выброшенная на песок, выглядит отвратительно грязной. Когда огромные ламинарии, целые подводные деревья, шторм вырывает с корнями со дна морского и мощными волнами прибивает к берегу, они тоже превращаются в мерзкую кашу: стволы сломаны, перекручены, размолочены, листья растерты в слизь, и все это снова и снова дробится волнами и ветром, затем взбивается в пену, которую океанские волны во время прилива выбрасывают далеко на берег. И эта пена уже совсем не белая, а грязно-желтая и, быстро окисляясь, становится коричневой по мере того, как еще оставшиеся в живых клетки распадаются и умирают. Их окрашивает собственная смерть. Если бы это была чистая водяная пена, ее пузырьки существовали бы не дольше тех шипучих пузырьков, что бывают в родниках и ключах с пресной водой. Но это ведь морская вода, она заварена крепко, как чай или пиво, она пропитана красителями и густа, как суп, от находящихся в ней живых и умирающих организмов. Она испорчена, она абсолютно нечиста. Это материнская жидкость, околоплодные воды, похожие на густой итальянский суп с курятиной, овощами и лапшой С уст неласкового, не по-матерински холодного зимнего моря, губителя кораблей и пловцов, слетает бешеная пена и оставляет на губах и на языке не чистый вкус морской соли, а землистый привкус низкосортного шампанского, а на зубах - хруст крошечных песчинок.