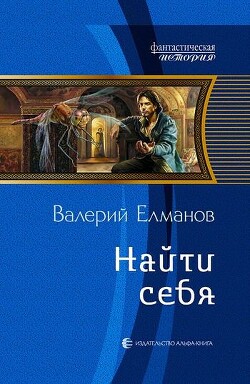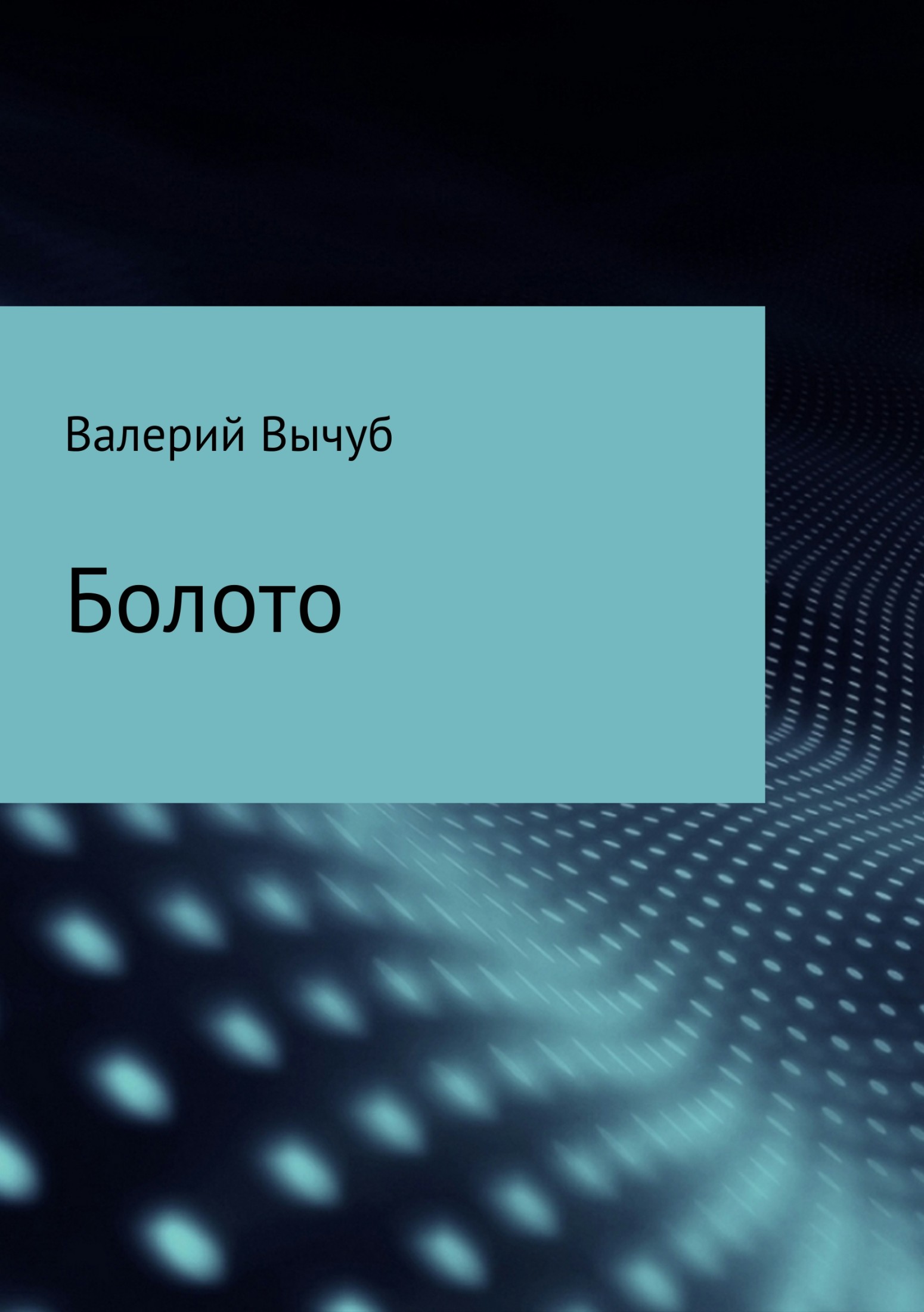Однако дядька был абсолютным профаном в ратных делах, потому проглатывал всю мою галиматью за милую душу. Да, скорее всего, он и не вслушивался в слова – главным для него был голос.
По-настоящему заботило Чемоданова только одно – в нужный час подать обед. Увы, но царевич в это время то подходил к окну, задумчиво разглядывая открывающийся перед ним пейзаж, то склонялся над картами, стоя опять-таки спиной к дядьке, а на все его вопросы о пожеланиях по поводу еды только пренебрежительно махал рукой и отвечал односложно:
– Подавай что хошь, я нынче все съем.
Тяжелее всего Емеле приходилось утром и вечером. Тут уж надо было держать ухо востро. Правда, в эти минуты старался выручить я, ухитряясь отвлечь дядьку в самый неподходящий момент.
– Ахти мне, – жаловался он после. – Сызнова Феденьке не успел подсобить ногу в стремя взденуть.
– А зачем? – удивлялся я. – Неужто не видел, как он сам, без тебя управился, да так лихо, что никакая помощь не понадобилась?
– А куда же это он поскакал-то так резво?
– Куда же еще, как не к своему терему, – равнодушно пожимал плечами я.
– Лошаденка у меня вовсе худая, – сокрушался Чемоданов. – Сменить бы, а то я никуда за им не поспеваю.
– Так ведь дороги всего три версты, – пояснял я. – От избушки к терему да обратно. К тому ж видел, сколько у него телохранителей.
– Уж больно скоро. Так и шею сломать недолго, а кому опосля ответ перед государем держати? – ныл дядька.
– Если не угомонишься, когда что-то случится, непременно скажу Борису Федоровичу, что ты несчастье накаркал. – Я начинал выходить из себя.
– Свят, свят! Господь с тобой! – пугался Чемоданов. – Я ж токмо из опаски.
– Из опаски… – ворчал я. – Лучше бы радовался, каким лихим твой воспитанник стал. В седле как влитой, словно вырос в нем. Да и сам поздоровел, возмужал, силой налился. А ест как здорово – на тарелках ничего не остается.
– Так-то оно так, – скорбно вздыхал дядька. – Да не случилось бы лиха. Опять жа и спать близ его он мне воспретил, и прислуживать за трапезой. Николи такого не бывало, чтоб он без меня-то.
– Зато обед подаешь, – напоминал я. – А про все остальное я тебе уже пояснял – чай, он воевода, потому и должен привыкать, что у него в помощниках, кроме его ратников, никого нету. Да и им надо приучаться на будущее – как себя вести с царевичем, как подавать и прочему.
Сам же в это время прикидывал, сразу хватил бы Чемоданова кондрашка, если бы он глянул на руки подлинного царевича за утренней или вечерней трапезой, или он успел бы разразиться громкими воплями, стонами и сетованиями на то, что недоглядел.
Дело в том, что сберечь лицо Федора от царапин и ссадин нам кое-как удавалось, но с руками этот номер не проходил, несмотря на перчатки, которые царевич практически не снимал во время занятий, за исключением стрельбы.
Как он ухитрялся их заработать – загадка, но факт остается фактом. Особенно выделялись два свежих пореза, один из которых тянулся через всю тыльную сторону левой ладони аж до самого запястья, а второй, хоть и не столь приметный, был на правой ладони. Впрочем, при обучении бою на саблях, пускай они и деревянные, возможно всякое, потому я особо ничему не удивлялся.
Про мозоли вообще остается молчать – их имелось аж семь штук. Говорят, что семь – счастливое число, но я не думаю, что мне привалит счастье, когда их заметит старший Годунов.
Думаю, если бы в тереме не царил полумрак, дядька сразу разглядел бы, что и с лицом у Федора не все слава богу – пороховой нагар от частой стрельбы царевич смывал с себя в семи водах, но какие-то следы все равно оставались. Да и кисловатый запах, шедший от одежды, тоже – не зря Чемоданов все время недоумевающе принюхивался к своему воспитаннику в те редкие минуты, когда выпадала возможность подойти поближе.
Однако в целом все проходило гладко. Так гладко, что я стал побаиваться – если неприятность задерживается, то она, как правило, становится гораздо крупнее, причем время ее ожидания прямо пропорционально ее увеличению.
Кто именно донес о моей афере, равно как и о том, чем на самом деле занимается царевич в своем полку Стражи Верных, не знаю. Борис Федорович со мной не поделился, а вычислить стукача я не успел. Понятно, что приложил к этому разоблачению руку и Семен Никитич. Правое Царское Ухо такие дела никогда не минуют, да и сам доносчик явно имел отношение к его «аптечному» [118] ведомству.
Рад я был только одному – разработанные мною методы конспиративного обучения царевича оказались достаточно качественными, чтобы продержаться почти месяц, то есть в ближнем окружении предателей не было.
Но когда царь прибыл в наш лагерь на смотрины, он уже все знал…
Глава 23
Царская инспекция
Вообще-то, может, оно даже и хорошо. Не зря говорится: что бог ни делает, все к лучшему.
Все равно бы старший Годунов обнаружил и ссадины, и порезы, а в мыльне увидал бы и три здоровенных синяка, полученных в результате падения с лошади, после чего обязательно схватился бы за сердце.
Разумеется, синяки были уже изрядно потускневшими – спасибо свинцовым примочкам, которые я выпросил у лекаря, но при хорошем воображении, видя их размеры, представить, что это были за ушибы, можно. И хорошо, что остались видны только расплывчатые тени лишь трех последних, которые не успели сойти, а ведь если считать все, то наберется не меньше десятка.
Словом, учитывая, как Борис Федорович трясется над сынишкой, сердечный приступ царю был бы обеспечен – тут и к гадалке ходить не надо.
Зато заранее зная все или почти все – слава богу, что синяки могли видеть только я и Дубец, помогавший прикладывать компресс, старший Годунов только недовольно поморщился после того, как увидел за трапезой на левой руке царевича более светлую полоску – коросту отпарили и кое-как содрали накануне.
Он протянул руку, бесцеремонно ухватил Федора за кисть, прищурился, внимательно разглядывая три ороговевшие мозоли, и потом обвел окружающих недобрым взглядом. Его глаза мгновенно потемнели.
Окружающие – их было всего трое, поскольку честь трапезничать с царем имели лишь воеводы полка – как по команде тоже прекратили жевать и замерли.
– Стало быть, правду мне сказывали, – вздохнул он, зло отталкивая от себя очередное блюдо с благоухающим мясом только что подстреленного кабанчика.
Федор как-то весь сразу съежился, затих, и бодрая улыбка рваным чулком мгновенно сползла с лица царевича.
– Ты о чем, государь? – невинно уточнил я.
– А то сам не ведаешь?! – уставился он на меня.
Я стоически выдержал тяжелый, немигающий взгляд почерневших от гнева царских глаз, после чего спросил:
– Дозволь, государь, я поначалу отпущу третьего воеводу, уважаемого Христиера Зомме, ибо он тут вовсе ни при чем.
Борис Федорович сердито кивнул, и мой лучший помощник, светясь облегченной улыбкой, тут же поспешно выскочил из-за стола, даже не дождавшись, когда я к нему обращусь.
– А теперь, государь, дозволь также покинуть стол и первому воеводе полка Федору Борисовичу, ибо ему надлежит должным образом подготовить ратников к торжественной встрече царя всея Руси, – ровным голосом продолжил я.
Годунов посопел, но и тут не возражал, зло мотнув головой в знак согласия.
– Я мигом, батюшка! – заверил еще более обрадованный Федор.
Если Христиер вышел шагом, пусть и торопливым, соблюдая видимость достоинства, то царевич выпорхнул. При этом если Зомме лишь сиял улыбкой, то на лице царевича она сверкала. Еще бы – экзекуция откладывается, а там, после встречи, как знать, как знать…
– Ну а теперь, когда мы остались одни, ваше величество, можно и поговорить, – заявил я в открытую, поскольку таиться и пытаться что-то скрывать не имело смысла. – Или для начала дозволишь мне кое-что пояснить?
– А есть такое, чего и я не ведаю? – скептически поинтересовался Борис Федорович.