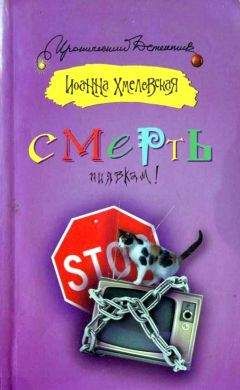Ну, и как премия для коллектива, раз в квартал персонал посещал распродажи дешевой косметики, дезодорантов, чулок и спортивной обуви, после чего пару недель щеголял в одинаковых кроссовках, распространяя вокруг себя идентичный запах какого-нибудь простенького шампуня.
Кто сказал, что Ад – это раскаленные сковородки, запах паленого человеческого мяса, острые иглы под ногтями, высунутые синюшные языки и выпученные тусклые глаза бесконечных висельников? Нет, иногда настоящим Адом может стать занудливая бухгалтерская работа с девяти до шести, ограниченный круг общения, строгий режим и предписанные, ни на йоту не изменяемые годами развлечения. И хотя Некта отлично понимала – разумом, не душой – что предназначенное ей наказание и есть уже само по себе максимально мягкое, практически и не наказание вовсе после шестнадцати… нет, все-таки – двух-трех разгульных лет её первой, истинной жизни, что таким образом высший бес просто держит свое бесовское слово, легче от этого не становилось, тем более, что любые попытки хоть немного нахулиганить, побезобразничать, исключительно для разнообразия, решительно и жестко пресекались с загадочным, но сулящим мало хорошего отсчетом: «Первое замечание, второе замечание, первое предупреждение, третье замечание…», а кары, скорее всего, в виде ужесточения режима обрушивались причудливым образом на соседок по столам, ухитрившихся накоротке сойтись с протеже одного из иерархов Преисподней. Потому уже в скором времени Некта перестала даже пытаться буянить, чтобы не подставлять своим поведением под удар невинные души, а предпочла полной чашей испивать собственное наказание, вот только счет времени пребывания в адской бухгалтерии девушка потеряла, пожалуй, уже через пару-другую лет изнуряющей скуки после возвращения из отпуска, сменив статус «неживой, но живущей» на «пребывающей в муках грешной души».
Вот и сейчас, шествуя по проходу между столами, нарочито отчаянно виляя тощей задницей, пристукивая низкими, чуть стесанными каблучками разношенных кем-то туфель-лодочек, Некта готовилась небрежно, с этаким дерзким бессмысленным фрондерством метнуть скрепленные бумаги на стол заведующей сектором – тетки не вредной, но очень уж озабоченной аккуратностью и своевременностью исполнения возложенных на нее не хитрых обязанностей – чтобы потом развернуться лихо, со взлетом юбчонки аж до пояса, и пройти к заваленному бумагами столу «входящих», на котором – в правом уголке – её ждала небрежно скомпонованная кипа очередных накладных и счетов… и в этот момент стена между двумя бухгалтерскими столами по правую руку от Некты вздулась мыльным, переливающимся всеми цветами радуги, пузырем и звонко лопнула, окатив сидящих поблизости женщин веселыми цветными искорками, а в проходе объявился небольшой, едва по плечо невысокой Некте, лохматенький бесенок с энергичным, забавным хвостиком, помахивающим пушистой кисточкой на конце, блестящими глазками-пуговками, как у плюшевой игрушки, детским, мультяшным, розовеньким пяточком-носом, забавно мелькающим среди бурой шерстки на лице.
– Грешная душа, именуемая Мариной-Нектой? – важно вопросил-вызвал лохматенький, деловито подбоченясь и оглядывая просторный зал, заполненный столами, бумагами, мерцанием компьютерных экранов, с таким видом, будто и не подозревает вовсе за кем его послали.
– И чего? – от неожиданности вызова – ой, неужели! – девушка едва не выронила бумаги из рук.
– Прошу, васятельства… – сюсюкнул бесенок и картинно изогнулся в поклоне, даже ножкой шаркнул от чувств-с, мохнатой лапкой указывая прямиком на стену, в которой завихрилась, образовалась непонятная дыра в человеческий рост, наполненная разноцветными мыльными пузырями, которые, хоть и бурлили внутри, наружу, в помещение бухгалтерии, показаться не смели.
– Эх! – вскрикнула от неожиданно навалившегося ощущения близкой свободы и собственной кому-то нужности Некта и резким жестом запустила к потолку до сих пор сжимаемые в руке сшитые тонкой металлической скобкой бумаги. – Веди, лохматый…
… и не раздумывая шагнула первой в переливающийся хаос в стене, чтобы очутиться – в несколько театрализованном, но очень реальном, живом крестьянском дворе века этак восемнадцатого, не раньше.
У бревенчатой массивной стены, видимо, изображающей амбар, была установлена парочка козел – простых толстых бревен, положенных на крепкие распорки, похожие на косые андреевские кресты. Животом на бревнах, со связанными внизу руками, но свободными ногами, лежала парочка обнаженных тел – одно явно юношеское, мальчишечье, второе – девичье, как смогла рассудить лишь по торчащим пухлым задницами Некта. По обе стороны от тихо, с переливами, постанывающей, подвывающей на козлах девицы стояли здоровенные бородатые мужики в армяках, зипунах – ну, или как там еще называли эти длиннополые пальто-непальто в те далекие времена? – в лаптях на крепких мощных ногах, с длинными плетками, которыми они поочередно охаживали уже покрасневшую от ударов спину и попку неведомой девицы. Пороли её неторопливо, без какой-то злости и остервенения, так, как просто положено пороть раз в неделю для порядка и почитания. Еще один, похожий, как близнец, мужик подтащил ко вторым козлам деревянную бадейку с водой и опрокинул ледяную жидкость на сомлевшего, видимо, от плеточных ударов мальчишку, который тут же встрепенулся, приподняв голову. Неподалеку от стены возвышалось массивное, крепкое, будто вросшее в землю кресло, на котором восседала женщина лет сорока в старинном платье с открытыми плечами, низко опущенным лифом, пышными юбками. Красивое лицо женщины то и дело искажали судорожные гримасы, отражающие, видимо, все её чувства к происходящему – от грозного: «Дайте срок! Всех запорю!» до жалостливо-просящего: «Помилосердствуйте, нельзя же так…»
– Дальше, дальше, дальше… – едва заметными, можно сказать, воздушными движениями подпихивая Некту к бревенчатой стене проговорил, да что там, пропел бесенок за спиной.
– А это?.. – не поленилась обвести рукой неожиданную сцену, возникшую за стенами бухгалтерии, сопровождаемая лохматым агентесса.
– Ах, это… барыня-с… любила крепостных своих пороть дел не по делу… шибко так любила, – пояснил лохматенький, приноравливая свою речь к увиденной эпохе. – Да и детки её, как в возраст-то только вошли – тоже полюбили глядеть на такое… чтобы, значит, в кровь, да до смерти… ну, грешные-то, живущие которые, их сами собой наказали, матку-барыню – в монастырь, значит, грехи отмаливать, детишек тоже куда-то пристроили… да только у нас же свой суд, вот и порют теперича деточек на глазах-то матери… может, за Вечность-то и вразумят…
– Ох, ты… – только и успела произнести Некта, как бесенок ловко щелкнул кончиком хвоста по стене, открывая проход в следующий зал…
…точную копию пустынного переулка где-нибудь в Чикаго двадцатых годов, именно так представляла себе Некта этот город во времена «сухого закона», бутлегеров и становления ставшей позже знаменитой американской мафии: чугунный фонарь на углу, яркая вывеска бара над тяжелой, низенькой дверью, аккуратный, но замусоренный фантиками и папиросными окурками тротуар, и одинокая фигурка под фонарем – в короткой юбочке, черных чулках, на высоких, ломающих ноги каблуках закрытых туфель… рот в яркой, броской, кроваво-красной помаде, глаза густо обведены тенями, как у грустного кукольного Пьеро… нечто этакое – декадентское, грустно сосредоточенное, убийственно скучающее… то ли нанюхавшееся кокаина, купленного в соседней аптеке за раздвинутые перед аптекарем ножки, то ли выкурившее пару папиросок со сладко пованивающей марихуаной, привезенной бой-френдом из далекой Мексики, где, говорят, эта трава растет в каждом пеонском огороде… Откуда-то издалека доносилась невнятная меланхоличная музыка – блюз? – изредка сменяющаяся бравурными аккордами банджо…
– Ч…ш...ш… – упредил вопрос Некты бесенок смешно прижав лохматую лапку ко рту. – Только шепотком, васятельство, услышит – жизни не даст…
– И давно она так стоит? – понизив голос поинтересовалась агентесса.
– Да сколько помню, так у столба и скучает, – пояснил нечистый. – Ни друзей, ни клиентов, вообще, ни одной души вокруг… видать, при жизни уж шибко многие её окружали, не давая скучать… хотя – кто ж знает, как оно было…
Про грехи, за которые упокоившаяся душа была наказана вечным стоянием у городского столба в ожидании неизвестно чего, Некта спросить не успела, поторопившийся бесенок, видимо, уже не раз сталкивающийся с неведомой грешницей, ловко открыл кончиком хвоста двери прямо в кирпичной стене американского бара.
И в ноздри ударил запашок загнивающей стоячей воды… по самому краешку бесконечного болота, увязая в грязи, хлюпая сапогами, по щиколотку в воняющей жижице, к огромным гранитным валунам, разбросанным когда-то отступающим ледником, сейчас прикрывающим собой высоченные сосны, брели странные, толстенькие, пузатые солдаты с напряженными, покрасневшими от натуги и усталости лицами, покрытыми обильным потом. Видно было, что даже простое пешее перемещение по болоту дается толстякам нелегко, но тут из-за валунов, с хорошо оборудованных позиций, ударили пулеметные очереди, и странные солдаты один за другим стали валиться в мокрую грязь под ногами – кто с пулей в толстеньком брюшке, кто – сберегая собственную драгоценную, как бы, жизнь… истошные крики перепуганных людей, хлесткий звук пулеметной стрельбы, попытки кое-кого из приземлившихся толстяков открыть ответный огонь из старинных «калашей» с облезлыми деревянными прикладами – все смешалось в круговерти боя…