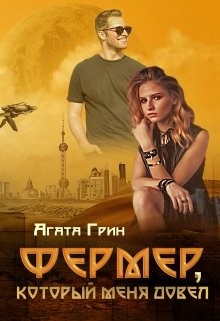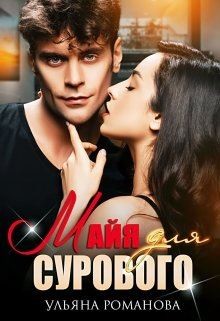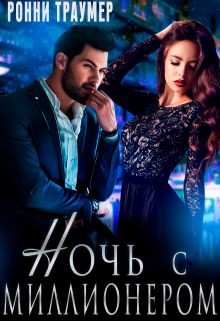Я ответила ему что-то невнятное, потому что отчаянно пыталась не плакать.
— Пустынники не обижали вас? — спросил мужчина.
— Нет, — всхлипнув-таки, ответила я.
Пальцы Руда, сухие и теплые, коснулись моего лица; мужчина принялся нежно и аккуратно стирать с него слезы.
— Знаете, — проговорил он, — очень хорошо, что вы плачете и ничего в себе не держите. Куда хуже было бы, будь вы спокойны с виду и тихи. А так я уверен, что все с вами будет хорошо.
Я снова произнесла что-то неразборчивое.
— И все-таки это нехорошо, когда такая прелестная женщина плачет, — покачав головой, продолжил Руд, противореча себе же.
Затем, перегнувшись за сиденье, он поднял мешочек, и, развязав его, достал из него нечто маленькое, яркое, извивающееся, сантиметров тридцать в длину. Я тонула в болезненных мыслях о Неве, моя любовь к нему отчаянно не хотела умирать, и слезы размывали картину, так что я не сразу поняла, что вот это извивающееся — не провод, а змея. Точнее, змейка.
— Поглядите, — прошептал Руд, позволяя ей скользить по его руке, — редчайшее создание — радужная ядовитая змейка Луплы.
Я глянула на нее, осознала, что это и впрямь змея, и что она ядовита, и из состояния слезотечения перешла в состояние окаменения.
— …Изумительная, — продолжал шептать агент, — невероятная красавица…
Змея и впрямь была изящная, тонюсенькая, цветастая, но я не видела в ней красоты, видела лишь ядовитое ползучее создание, которых с детства до смерти боюсь.
— Хотите подержать? — спросил Руд, и протянул ко мне руку со змеей.
Так как я окаменела от страха, то ни двинуться, ни ответить не смогла, так и смотрела огромными глазами на радужное страшилище, хоть и совсем маленькое. Мужчина растолковал это как согласие, взял меня за руку, и в следующее мгновение змейка извивалась уже на моей руке.
— Прелесть, не правда ли? — внимательно на меня глядя, сказал агент.
Змейка была ни теплой, ни холодной, и тяжесть ее длинного тельца я совсем не ощущала — а ощущала скольжение, трение… Не выдержав стресса, я беззвучно, со страшной гримасой махнула рукой, чтобы змея отцепилась, но вместо этого она лишь плотнее обвила мои пальцы.
— А-а-а-а, уберите ее! Уберите! — завизжала я.
Агента Руда едва не вырубило от выданного мной ультразвука, и он, побледнев, попытался забрать змею. Змея не захотела к нему возвращаться и поползла вверх по моей руке. Я схватила ее другой рукой за хвост, чтобы сдернуть с себя…
И почувствовала укус.
Боль была острая, немедленная; я снова замерла, потому что страшное уже случилось. Как только змейка вытащила клычки из моей кожи, Руд тут же предоставил ей свою руку. Радужное кошмарище переместилось на руку мужчины; спокойный агент деловито опустил руку в мешочек, и вынул уже без змейки. Плотно стянув края мешочка шнурком, Руд коснулся моей дрожащей руки и, поглядев на две крошечные точки на плече, произнес чуть вибрирующим голосом:
— Боль сейчас пройдет. И придет нечто противоположное ей…
Боль и правда начала стихать — теперь я ощущала в ранках жжение.
— Вы это сделали специально, — прошептала я, глядя на агента.
Мужчина поднял на меня свои глаза «не определившего» цвета — то ли синие, то ли темно-голубые, с желтинкой, окаймляющей зрачок.
— Что вы, Камарис, — солгал он бессовестно, глядя мне в глаза. — Я лишь хотел показать вам эту редчайшую прелесть до того, как мы передадим ее Теням.
— Ну и гад, — выдохнула я.
— Вы думаете обо мне хуже, чем я есть на самом деле. Я бы никогда не подверг вас опасности.
— Да пошел ты! — рявкнула я, и ощутила, как горячая волна прошла по моему телу, и кровь бросилась в лицо.
— Сидите спокойно, — посоветовал Руд, который внимательно наблюдал за каждым моим вздохом, за каждым движением. — Яд уже действует. Когда он распространится по всему телу, вас накроет эйфория. Расслабьтесь и получайте удовольствие.
— Пошел ты! — повторила я так же громко, так же злобно, и откинулась на сиденье: «чудеса» начались.
…Это было похоже на нагретую морскую волну, которая накрывает тело, тонущее в мягком шелковом песке, тоже нагретом. Со зрением случилось что-то странное: перед глазами то пелена вставала, то, напротив, салон кара и лицо агента становились очень резкими, нереально детализированными, словно я смотрю на них через увеличивающий прибор; я решила закрыть глаза, чтобы с ума не сойти.
— Невероятно, — выговорила я с усилием, вяло, словно человек, которого пробудили перед рассветом, в момент самого крепкого и сладкого сна.
— Да, это невероятно, — поддакнул Руд. — За то, чтобы испытать то, что вы испытываете сейчас, многие люди, очень богатые люди, готовы выложить целое состояние.
— Невероятна ваша подлость, — пояснила я.
— Укус — это случайность, — сказал невозмутимо агент; его голос действовал на меня особым образом — он сделался осязаемым и каким-то образом проник внутрь моей головы, словно гладил мозг…
Я выдохнула и начала стекать по сиденью. Тело как будто теряло плотность; его продолжали накрывать несуществующие морские волны, поглощать шелковый песок… Руд помог мне принять более удобное положение. Я раскрыла глаза — прикосновение его рук меня ошарашило, зажглись искры где-то там, в невесомой сути моего тела.
Я вымолвила что-то, зацепилась слабыми руками за одежду агента.
Его глаза увеличились в размерах, их неопределившийся красивый цвет залил все вокруг, и я утонула в нем… или воспарила к нему? Пришла эйфория, пришло блаженство, и я растворилась в них без тени сомнения, без желания и без возможности сопротивляться.
Ветер говорит со мной: «С-с-с… ш-ш-ш… Пес-с-с-очный камеш-ш-шек. Камиш-ш-ш-шек. Рас-с-с-сыпалас-с-сь… потерялас-с-с-сь…»
Возникают темные глаза, шерстистая густая борода. Звучат отрывистые резкие слова. Большая злая скала с бородой — первое воспоминание о Пруте Ховери.
— Не моя порода, — говорит дед.
Я перепугана, слезки набрякают на глазах — их раздражают ветер и песчинки песка, кружащиеся в нем. Никто никогда на меня так не смотрел, никто никогда не говорил мне таких обидных слов. Я еще не понимаю их значения, но понимаю интонацию и смысл — не нравлюсь, мне не рады.
А мама уверяла, дедушка будет мне рад…
— Брось эти глупости, папа, — говорит она укоризненно. — Ками в тебя пошла: такая же кареглазая и золотоволосая.
— Не моя порода, — отрезает Прут Ховери.
— Ну и хорошо, — говорит папа. — Значит, хорошая девочка будет.
Дед плюет куда-то в сторону; плевок мне кажется пущенным снарядом. Я вздрагиваю, а дед ворчит:
— Имя дрянное. «Камарис», камешек… Камишек.
— Прекрасное имя, — возражает папа, подходит ко мне, и берет на руки. На руках у папы хорошо и привычно, я прячу личико где-то у него на груди. — Идем погуляем, Ками, я покажу тебе кооков. Красивые зверьки, пуши-и-истые!
— Близко не подходите, — предупреждает дед, не скрывая недовольства. — Переполошите животных. Они детей не любят.
Папа уносит меня подальше от страшного Прута Ховери, и мне уже не так страшно, и не так обидно, потому что больше всего во вселенной я люблю папу, а папа любит меня и несет показывать пушистых кооков.
— Камишек, — произносит дед, напоминая, что я для него так же ценна и любима, как камешек под ногами. — Хоть что-то в жизни ты сделала толковое. Нев — хороший парень, держись его.
Я киваю.
—…Жениться вам надо, — продолжает дед, почесывая неопрятную разросшуюся бороду.
Мне сложно поверить, что Прут Ховери был когда-то первым красавцем Хасцена — рослым, плечистым, с копной песочно-золотистых волос и карими глазами, необычными для этой местности. Для меня дед — камень, валун, что с виду, что внутренне. Но надежный валун, крепкий, который любого передавит за свою семью. Он тяжел во всех смыслах, но мы его любим. Даже я. Особенно я, в которой нет ничего каменного, ничего твердого, ничего орионского…