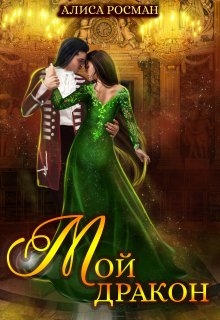Глава 3. Исчезнуть в черной мгле (часть 1)
Кулаком в глаз. Ногой в живот.
Дыхание застревает в диафрагме. Хохот пацанов булькает в ушах. В носу пощипывают слезы. И песок засыпает глаза.
Пришлую компашку вспугивает отец.
— Вставай! — приказывает Матфею.
Матфей продолжает лежать в песочнице под накрененным зонтом, между перекладинами которого кто-то засунул сплющенную полтарашку из-под пива.
Песок смаргивается вместе с остатками слез. Подстреленный из рогатки воробей замер под рукой и больше не пытается улететь. Он мертв.
Ему жаль воробья и жаль себя.
Он не смотрит на отца — знает, что тому стыдно. Стыдно, что его сын не может дать отпор мальчишкам. Что продолжает лежать на песке. Что он не тот, кто стреляет из рогатки по воробьям, а тот, кто пытается их спасти.
Брынь — гитара.
Пальцы в мозолях поглаживают струны.
Струна лопается. Отлетает и царапает скулу. Гитара падает на пол.
Бухают в квартире Санька, пока его родители неделями пропадают на даче.
Сквозь музло настойчиво продирается звонок в дверь.
— Палево, предки! Прячься! — спешно вырубая музыку и засовывая бутылки и пепельницу за диван, шипит Санёк.
Матфей залезает в шкаф, и там, среди навешанных клетчатых рубашек Санька, кажется, сохранившихся еще с детсада, отрубается.
Со скрипом открывается дверь шкафа. По глазам ударяет свет. Лицо матери Санька геометрически удлиняется.
Матфея мутит.
Свет сыплется.
Его выворачивает.
Изнанка света — ночь.
Холодно. Зима. Окраина леса.
Босая девочка в теплом ореоле светлых волос, дрожит среди голых стволов сосен. Тропинка обрывается окном в другой мир. По ту сторону лето тонет в цветении сада. Неправильные образы нагих мужчины и женщины застыли под гранатовым деревом, перед ними ящик.
Девочка тянет посиневшую от холода руку, чтобы коснуться теплого воздуха.
— Ящ-щ-щик Пандоры! — по-змеиному шипит женщина, — Хаос должен пожрать всех выродков!
Она буравит маленькую девочку взглядом, будто старается стереть ее силой своей ненависти.
— Пандоры, — эхом повторяет девочка, и её рука зависает в воздухе.
Она моргает. Отшатывается и пятится. Спотыкается о ветку и падает в сугроб. Барахтаясь в снегу, она окончательно сбрасывает с себя морок, что привел ее в лес. Выбравшись, испуганно осматривается. Обхватывает себя руками.
— Не надо! — посиневшими губами просит она.
— У нас нет выбора! — холодно отвечает женщина, поправляя длинные золотые волосы, что лишь слегка прикрывают её груди.
— Выбор есть всегда! — сквозь страх возражает девочка.
— Ты не должна была рождаться! Ты угроза! — зло кривится мужчина, медленно поворачивая лицо от женщины к девочке.
— Пожалуйста… — жалобно просит девочка. — Не открывайте. Я видела это во снах…
— За родительские грехи всегда платят дети! — хором отвечают мужчина и женщина, сплетаясь голосами.
— В глазах детей всякий родитель — безгрешен. Значит, и грехов никаких нет! — голос девочки, скованный морозом, звучит слабо и глухо.
Девочка наклоняется, и окоченелыми пальцами сгребает в руки пригоршню снега. Выпрямившись, она сердито швыряет ее в парочку.
Снег, влетает в Эдем, и попадает в женщину. Она вскрикивает, в ужасе пытается стряхнуть сверкающие крошки с волос.
— Мы не дадим тебе взрасти, дитя Сатаны! — визжит женщина, с отвращением глядя на мокрые руки.
Мужчина подходит к женщине вплотную, и ласково взяв ее руку, слизывает капли с ее пальцев.
— Вместе, — шепчет он ей.
— Вместе, — хищно улыбается она.
Их руки ложатся на крышку ящика.
Совсем обычный с виду ящик, антрацитового цвета, испещренный письменами… Он лишь на миг приоткрывается, и с оглушительным щелчком захлопывается вновь. Но из него успевает вырваться облачко бездны.
Раздается треск. Режется ткань мироздания. Пригоршню невзрачного серого песка швыряет из окна Эдема в сосновый лес.
Матфей дергается, но тщетно, в этот раз он ощущает себя вросшей в снег сосной — все видящей, но бессильной что-то изменить.
Девочка охает. Вся сжимается и, зажмурившись, остается стоять на пути бездны, шепча молитву. Бездна пробивает грудь и тонет в ней.
Девочку на несколько метров отрывает от земли. В воздухе ее безвольное тело выгибает дугой и, как тряпичную куклу, мотает из стороны в сторону.
— Ши-и-и-и! Ши-и-и-и!
Окно в Эдем сворачивается в черную точку и, поднявшись, тонет в глубине кровавого рассвета.
Девочка падает. Ударяется о снег. Из горла рвется глухой стон.
— Маман Софи, — по её щекам текут слезы, но тут же застывают снежными камушками на бледнеющем лице. Она останавливает взгляд сиреневых глаз на сосне, той самой, в которой Матфей мечется в попытках сделать хоть что-нибудь, — она грустит… Ты спасешь меня от холода, мальчик?..
От груди девочки по телу расползается серость. Паутина оплетает ей лицо и волосы. Стирая остатки жизни.
Вопль подбежавшей женщины заставляет Матфееву сосну вздрогнуть. Нетрудно догадаться, что эта та самая мама Софи, а за ней люди в одеждах из прошлого века.
Мама Софи падает возле девочки, прижимая ее к груди. Растирает руки, ноги, но та больше не откликается на прикосновения. В ней больше нет ни боли, ни тепла, ни радости.
— Варенька! Очнись! Доченька! Открой глазки! Господи, какая ты холодная! — причитает мама девочки.
И девочка вдруг открывает глаза. Матфей смотрит в эти глаза и понимает, что девочки больше нет. В черных глазах отражается лишь одно — голод.
— Господи боже, спаси и сохрани! Софья Николаевна, вы гляньте-ка! У вашей девчушки глаза и волосы от холода почернели! — эхом откликаются причеты простоватой бабы.
В небе красным пятном встает солнце. Матфея поднимает по веткам сосны ввысь навстречу свету. Свет заволакивает все звуки и краски. Он обнимает собой Матфея, притупляет страх и боль, и даже сами воспоминания о той, что опаленной тенью остается лежать на снегу.
***
Солнце падало в окно радостными лучиками. Тепло, хорошо, глаза открывать не охота. Хотелось просто пить свет, чувствовать себя его частью и быть счастливым.
В голове впервые за долгое время нет шумов — ясно и светло, как за окном, отчего настроение поднялось на пару градусов, обозначившись оттепелью.
В кресле у кровати мирно дремала мама. Даже во сне она выглядела уставшей и встревоженной. Матфей только сейчас заметил, как морщины грубо поранили её красивые черты. Они выглядели неестественно на её по-детски милом лице, как будто их наклеил плохой гримёр. Видно опять, не отдохнув со смены, помчалась к нему.
Градус настроения пополз вниз.
Он забеспокоился, что её кто-нибудь разбудит, потревожит. Кто-нибудь вроде безумно-шумного старика. Но, покосившись на соседнюю койку, расслабился — койка пустовала. Матфей надеялся, что Егорушка умотал всерьез и надолго.
Внезапное ощущение чужого тепла на запястье сбило мысли в панический комок.
Он вздрогнул. Повернулся. Мама все же проснулась и попыталась погладить его по руке, но, напуганная реакцией Матфея, поспешно отдернула руку. Словно боялась невольно причинить ему боль.
— Привет, — улыбнулась она. Улыбка вышла натянутая, измученная. — Я тебе вкусненького принесла.
— Да не надо было ма, тут в столовой офигительная кормёжка!
Мама между тем вытаскивала из пакета и ставила на тумбочку фрукты, сок, салат.
«Сколько же она набрала? — подсчитывал Матфей. — И все дорогое… Опять в долги залезла, сама поди дома на хлебе и воде сидит».
В такие моменты он жалел, что не застрелился до того, как в лечение были вбуханы все их с матерью сбережения. Тогда бы у мамы хоть средства к существованию остались. А сейчас что с ней будет, если и операция не поможет или, еще хуже, если он станет обузой — овощем?
Передернуло. Нет, он даже думать об этом не мог. Просто надо выжить.
— Да знаю я эту больничную еду — гадство, а у тебя с аппетитом и так плохо, — улыбнулась она.