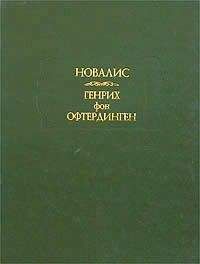Скорбный пилигрим обратился к былому, но куда девалось прежнее невыразимое упоение? Лучшие воспоминания едва влачились, померкшие. Широкополая шляпа не старила пилигрима, однако ночному цветку не свойственны яркие краски. Целебный нектар его весны пролился слезами, пылкий дух его изнемог в глубоких вздохах. Сумеречный оттенок пепла возобладал над богатой расцветкой жизни.
Поодаль на горном склоне под вековым дубом привиделся пилигриму коленопреклоненный монах.
«Никак, это старик придворный капеллан?» — подумалось пилигриму, которого не слишком удивила бы такая встреча. Но вблизи монах как бы вырос, и облик его вырисовывался уже не так отчетливо. Пилигрим заметил свою оплошность: перед ним возвышался всего лишь камень, осененный деревом. Однако, умиротворенный и растроганный, он обхватил камень руками и, всхлипывая, прильнул к нему: «Ах, если бы теперь сбылись предсказания, и Мать Небесная утешила бы меня Своим знаменьем! Кто еще поддержит меня, когда мне так тяжко? Или ни один святой не снизойдет к моей заброшенности, помянув меня в своих молитвах? Как нужна мне сейчас твоя молитва, незабвенный отец мой!»
Как бы в ответ на его мысли дерево затрепетало. Смутно зазвучал камень, и, словно зародившись в сокровенных земных недрах, донеслись чистые детские голоса, поющие хором:
Не ведала, бывало,
Счастливая, скорбей;
Теперь ей горя мало:
Младенец милый с ней.
Младенцу беспрестанно
Целует щеки мать
С любовью несказанной,
В которой благодать.
Детские голоса, казалось, были бы рады петь без конца. Неоднократно пропели они свой стишок. Когда тишина воцарилась вновь, пораженный пилигрим внял некоему голосу, как будто само дерево заговорило: «Когда, заиграв на своей лютне, ты прославишь меня песней, тебе явится бедная дева[154]. Прими ее и не расставайся с нею. Вспомни меня, когда будешь у императора. Я облюбовала это местопребыванье; я здесь, и со мною мое дитя. Воздвигни мне надежную уютную обитель. Мое дитя восторжествовало над смертью[155]. Не сокрушайся, я тебя не покидаю. Поживи еще немного на земле, утешен девой, пока твоя кончина не сподобила тебя нашей отрады».
— Это говорила Матильда, — вскричал пилигрим и в молитве преклонил колени.
Пронизав крону дерева, непрерывное сияние хлынуло ему в глаза, позволив различить преуменьшенное далью, непостижимое великолепие, перед которым бессильно описание и красочная живопись. Там царили восхитительнейшие облики; глубочайший восторг, ликование, истинно небесная отрада стали доступны созерцанию, так что даже неодушевленные сосуды: столпы, ковры, словом, зримое убранство не казалось изделием: все это словно само взошло, сочетавшись в своем природном вожделении, как буйная растительность.
Невозможно себе представить человеческие образы совершеннее тех, что встречались там в благоговейном, сладостном общении. Пилигрим видел свою возлюбленную; она предшествовала всем остальным, как бы обращаясь к нему. Однако ни единого звука не доносилось до него, и оставалось только с ненасытной скорбью всматриваться в милый лик, пока она, приложив руку к сердцу, нежно приветствовала его своей улыбкой. Бесконечно утешенный и ободренный, он еще упивался своим целительным восхищением, когда все скрылось. Чудотворное сияние унесло с собою тягостные печали и горести, так что на сердце вновь прояснилось, а дух воспрянул, по-прежнему вольный. Все прошло, кроме смутной сокровенной тоски, чья болезненная жалоба еще слышалась в тайниках души. Одиночество больше не терзало, несказанная утрата больше не растравляла душевных ран; мрачного, опустошающего страха, гробового оцепенения как не бывало, и пилигрим словно очнулся в обжигом, осмысленном мире. Все с ним как бы сблизилось, вещая явственнее прежнего; жизнь снова заговорила в нем, увенчанная своим же собственным проявлением, смертью; и, как дитя, в блаженном умилении созерцал он свой преходящий земной век. Будущее и былое сочетались в нем кровными узами. Настоящее покинуло его, и он в своем уединении, утратив мир, возлюбил утраченное, чувствуя себя гостем в этих просторных красочных палатах, где вряд ли суждено ему задержаться. Когда свечерело, земля показалась ему родным старым домом; скиталец вернулся наконец, а жилище заброшено.
Ожило множество воспоминаний. Не было такого камня, дерева или пригорка, который не взывал бы снова и снова к памяти, знаменуя минувшее событие. Струны лютни вторили песне пилигрима:[156]
1
Слезы, здесь вам время слиться,
Помолиться
В тихом таинстве напева;
В этой пустыни чудесной
Был мне явлен рай небесный,
Слезы — пчелы возле древа.
В грозы к ним густая крона
Благосклонна;
Вековые ветви крепки;
Благодатная в награду
Приобщеньем к вертограду
Оживит сухие щепки[157].
Упоен утес плененный,
К Ней склоненный.
В Ней почтил он совершенство.
Как не плакать на молитве?
За Нее в смертельной битве
Кровь свою пролить — блаженство.
4
Обретает здесь томленье
Исцеленье.
На коленях стой в надежде:
Будет страждущий излечен;
Вспомнит, весел и беспечен,
Как он жаловался прежде.
5
Строгий дух в таких оплотах
На высотах;
Если горестные пени
Вдруг послышатся в долинах,
Легче сердцу на вершинах,
Там, где ввысь ведут ступени.
Средь мирского бездорожья,
Матерь Божья[158],
Свет являя долгожданный,
Возвратила Ты мне силы.
Ты, Матильда, светоч милый,
Чувств моих венец желанный.
7
Возвестишь по доброй воле
Ты, доколе
Мне скитаться в ожиданье;
В каждой песне верен чуду,
Эту землю славить буду.
Наше близится свиданье.
8
Чудеса времен текущих,
Дней грядущих!
Вами здесь душа согрета.
Это место незабвенно.
Сны дурные смыл мгновенно
Пресвятой источник света.
Пилигрим ничего не замечал, пока пел. Посмотрев прямо перед собой, неподалеку от камня он увидел юную девушку, как будто хорошо знавшую его, потому что, радушно поздоровавшись, она позвала путника ужинать. Он сердечно обнял ее. Она сама и весь ее обычай сразу пришлись ему по душе. Девушка попросила повременить немного, приблизилась к дереву и, отрешенно улыбаясь, устремила взор ввысь, пока на траву сыпались многочисленные розы из ее передника. Смиренно преклонив колени, она быстро встала и удалилась вместе с пилигримом.
— От кого ты слышала обо мне? — осведомился он.
— От нашей Матери.
— Кто она такая?
— Богоматерь.
— Ты здесь давно?
— С тех пор как покинула могилу.
— Ты уже испытала смерть?
— Иначе откуда же моя жизнь?
— Ты здесь одна?
— Старец остался дома, однако мне знакомы многие другие жители.
— Готова ты мне сопутствовать?
— Конечно! Ты мне по сердцу.
— Разве ты меня знаешь?
— Издавна; у меня когда-то была мать, постоянно говорившая о тебе.
— У тебя не одна мать?
— Мать не одна, потому что Она одна-единственная.
— Как ее имя?
— Мария.
— А как зовется твой отец?
— Граф фон Гогенцоллерн.
— Его-то я знаю!
— Еще бы тебе не знать своего отца!
— Мой отец остался в Эйзенахе.
— У тебя не один отец, как не одна мать[159].
— Куда мы направляемся?
— Домой, куда же еще…
Перед ними раскинулась обширная лесная поляна, где возвышались полуразрушенные укрепления, опоясанные глубокими рвами. Цепкий подлесок льнул к древним стенам — так зеленеющий венок окаймляет серебрящуюся старческую седину. Можно было окинуть взором бесконечные времена и заметить при этом, как величайшие события вмещались в мимолетные ослепительные минуты, о чем свидетельствовали сумрачные камни, молниевидные трещины, угрюмые длинные тени. Так небо позволяет нам созерцать беспредельную даль, подернутую мглистой голубизною, и, словно в млечных переливах, непорочных, как ланиты ребенка, неисчислимую череду своих громоздких, необъятных миров. Они миновали древние врата, и пилигрим, к немалому своему изумлению, обнаружил вокруг необычные насаждения, убедившись, что среди руин таятся красоты ненаглядного сада. За деревьями ютился каменный домик, отстроенный на новый лад; окна были достаточно велики, чтобы пропускать свет в изобилии. Возле дома красовался широколиственный кустарник, чьи гибкие ветви нуждались в колышках; старик стоял и подвязывал хрупкую поросль.