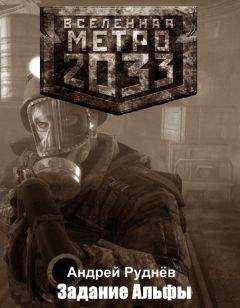— Байка это, вот почему!
— Ходят слухи, что под Университетом — не какой-нибудь подвал, а большое стратегическое бомбоубежище на десять этажей вниз, в которых не только холодогенераторы, но и собственный атомный реактор, и жилые помещения, и соединения с ближайшими станциями метро, и даже с Метро-2. — Леонид сделал Саше страшные глаза, заставив ее улыбнуться.
— Ничего нового я пока не услышал, — презрительно отвесил ему Гомер.
— Говорят, там настоящий подземный город, — мечтательно продолжал музыкант. — Город, жители которого — а они, разумеется, вовсе не погибли — посвятили себя собиранию по крупицам утерянных знаний и служению прекрасному. Не скупясь на средства, они посылают экспедиции в уцелевшие картинные галереи, в музеи и в библиотеки. А детей своих воспитывают так, чтобы те не утратили чувства красоты. Там царит мир и гармония, там нет других идеологий, кроме просвещения, и других религий, кроме искусства. Там нет убогих стен, крашенных в два кондовых цвета масляной краской, — они все расписаны чудесными фресками. Из динамиков вместо собачьего лая команд и сирен тревоги доносятся Берлиоз, Гайдн и Чайковский. И любой, представьте, способен цитировать Данте по памяти. И вот именно этим-то людям и удалось остаться такими, как раньше. Даже нет, не такими, как в двадцать первом веке, а как в античные времена… Ну, вы читали ведь в «Мифах и легендах»… — Музыкант улыбнулся старику как слабоумному. — Свободными, смелыми, мудрыми и красивыми. Справедливыми. Благородными.
— Ничего подобного никогда не слышал! — Гомер надеялся только, что хитрый дьявол не подкупит этим девочку.
— В метро, — Леонид внимательно посмотрел на старика, — это место называют Изумрудным городом. Но его жители, по слухам, предпочитают другое именование.
— И какое?! — распалился Гомер.
— Ковчег.
— Чушь! Полная чушь! — Старик фыркнул и отвернулся.
— Разумеется, чушь, — флегматично откликнулся музыкант. — Это же сказка…
* * *
Добрынинская была погружена в хаос.
Гомер озадаченно и напуганно оглядывался по сторонам: не ошибается ли он? Может ли такое твориться на одной из спокойных кольцевых станций? У него складывалось впечатление, что за последний час Ганзе кто-то успел объявить войну.
Из параллельного туннеля выглядывала грузовая дрезина, на которую были как придется навалены трупы. Военные санитары в фартуках перетаскивали тела на платформу, укладывали их на брезент: у одного голова отдельно, у другого на лице живого места не осталось, у третьего выпущены кишки…
Гомер закрыл Саше глаза. Леонид набрал воздуха в грудь и отвернулся.
— Что случилось? — перепуганно спросил у санитаров один из приданных троице караульных.
— Наш дозор с большой развязки, с главной ССП. Весь тут, до единого. Никто не ушел. И неясно, кто сделал. — Санитар вытер ладони о фартук. — Братишка, прикури мне, а? А то руки трясутся…
Главная ССП. Ветка-паук, отходящая за Павелецкой-радиальной и объединяющая четыре сразу линии — Кольцо, серую, оранжевую и зеленую. Гомер предполагал, что Хантер выберет именно этот путь, кратчайший, но охраняемый усиленными нарядами Ганзы.
Ради чего такое кровопролитие?! Первыми ли они открыли по нему огонь или даже не успели разглядеть его в туннельной тьме? И где он сейчас? О боже, еще одна голова… Как он мог такое сотворить?…
Гомер вспомнил о расколотом зеркале и о Сашиных словах. Неужели она права? Возможно, бригадир противостоял сам себе, стараясь удержаться от лишних убийств, но не умея обуздать себя? И, разбивая зеркало, он действительно хотел ударить того уродливого, страшного человека, в которого постепенно превращался…
Нет. Хантер увидел в нем не человека, а настоящее чудовище. Его он и пытался поразить. Но только раздробил стекло, превратив одно отражение — в десятки.
А может… Старик проследил взглядом путь санитаров от дрезины к платформе… Восьмой, последний. Может быть, как раз из зеркала все еще тоскливо смотрел человек? Прежний Хантер?
А тот… Другой… уже был снаружи?
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ЧТО ЕЩЕ?
«И действительно, что делает человека человеком?
Он бродит по земле уже больше миллиона лет, но магическая трансформация, превратившая хитроумное стайное животное в нечто совершенно иное, невиданное, произошла с ним каких-то десять тысяч лет назад. Подумать только, девяносто девять сотых всей своей истории он ютился по пещерам и глодал сырое мясо, не умея согреться, создать инструменты и настоящее оружие, не умея даже толком говорить! Да и чувствами, которые он был способен испытывать, человек не отличался от обезьян или волков: голод, страх, привязанность, забота, удовлетворение…
Как он смог вдруг за считанные века научиться строить, мыслить и записывать свои мысли, изменять окружающую материю и изобретать, зачем понадобилось ему рисовать и как он открыл музыку? Как смог покорить весь мир и переустроить его по своей потребности? Что именно десять тысяч лет назад прибавили к этому зверю?
Огонь? Дали человеку возможность приручить свет и тепло, унести их с собой в необитаемые холодные земли, жарить добычу на кострах, ублажая желудок? Но что это изменило? Разве что позволило ему расширить свои владения. Но крысы и без огня сумели заполонить всю планету, так и оставшись тем, чем были изначально — сообразительными стайными млекопитающими.
Нет, все-таки не огонь; во всяком случае, не только огонь, — прав был музыкант. Что-то еще… Что?
Язык? Вот несомненное отличие от прочих животных. Огранка неочищенных мыслей в бриллианты слов, которые могут стать всеобщей монетой, получить повсеместное хождение. Умение даже не столько выражать творящееся в голове, сколько упорядочивать это; литье неустойчивых, перетекающих как расплавленный металл образов в жесткие формы. Ясность и трезвость ума, возможность четко и однозначно передавать из уст в уста приказы и знания. Отсюда и способность организовываться и подчинять, созывать армии и строить государства.
Но муравьи обходятся без слов, на своем, незаметном для человека уровне создавая настоящие мегаполисы, находя свое место в сложнейших иерархиях, с точностью сообщая друг другу сведения и команды, призывая тысячи тысяч в неустрашимые легионы с железной дисциплиной, которые схлестываются в неслышных, но беспощадных войнах их игрушечных империй.
Может, буквы?
Буквы, без которых не было бы возможности копить знания? Те самые кирпичи, из которых складывалась устремленная к небесам Вавилонская башня всемирной цивилизации? Без которых необожженная глина мудрости, усвоенной одним поколением, расползалась и растрескивалась бы, проседала и рассыпалась в пыль, не вынеся собственного веса? Без них каждое следующее поколение начинало бы строительство великой башни с прежнего уровня, возилось бы всю жизнь на развалинах предыдущей мазанки и околевало бы в свою очередь, так и не возведя нового этажа.
Буквы, письменность позволили человеку, вынеся накопленные знания за пределы своего тесного черепа, сохранять их неискаженными для потомков, избавляя тех от необходимости заново открывать давно открытое, позволяя им надстраивать свое, собственное на твердый фундамент, доставшийся от предков.
Но ведь не только же буквы?…
Умей волки писать, была бы их цивилизация похожа на человечью? Была бы у них цивилизация?
Когда волк сыт, он впадает в блаженную прострацию, посвящая время ласкам и играм, покуда резь в животе не погонит его дальше. Когда сыт человек, в нем просыпается тоска иного свойства. Неуловимая, необъяснимая — та самая, что заставляет его часами смотреть на звезды, царапать охрой стены своей пещеры, украшать резными фигурами нос боевой ладьи, веками горбатиться, воздвигая каменных колоссов, вместо того чтобы усиливать крепостные стены, и тратить жизнь на оттачивание словесного мастерства, вместо того чтобы совершенствоваться в искусстве владения мечом. Та самая, что заставляет бывшего помощника машиниста посвящать остатки лет чтению и поискам, поискам и попыткам написать что-то… Что-то такое… Тоска, пытаясь утолить которую грязная и нищая толпа внемлет бродячим скрипачам, короли привечают трубадуров и покровительствуют живописцам, а рожденная в подземелье девчонка подолгу разглядывает размалеванную кое-как упаковку из-под чая. Неясный, но могучий зов, который способен заглушить даже зов голода — только у человека.
Не он ли раздвигает доступную прочим животным гамму чувств, давая человеку еще и умение мечтать, и дерзость надеяться, и смелость щадить? Любовь и сострадание, которые человек часто считает своим отличительным свойством, открыты не им. Собака способна и любить, и сострадать: когда болен ее хозяин, она не отходит от него и скулит. Собака может даже скучать и видеть смысл своей жизни в другом существе: если ее хозяин умирает, она иногда готова издохнуть, только чтобы остаться с ним. Но вот мечтать она не может.