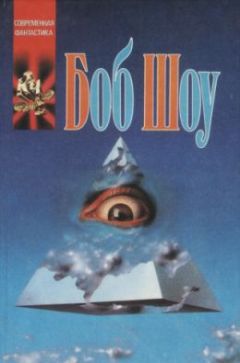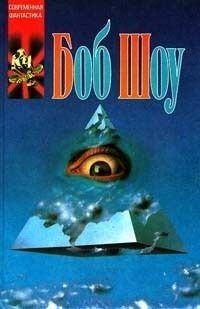Дежурный у входа молодцевато отдал честь.
Харпур кивнул.
– Прямо не верится, что сейчас июнь, правда, Бен?
– Да, сэр. Но внизу, я слышал, очень хорошо.
Харпур приветливо махнул рукой и шел уже по коридору, когда его захлестнула боль. Жгучая пронзительная боль. Словно кто-то тщательно выбрал стерильную иглу, насадил ее на антисептическую рукоятку, раскалил добела и с милосердной быстротой вонзил в бок. Он застыл на миг и прислонился к кафельной стенке, пытаясь скрыть слабость; на лбу выступила испарина. «Я не могу сдаться сейчас, – подумал он, – когда осталось всего несколько недель... Но если это конец?»
Харпур боролся с паникой, пока боль немного не отпустила. Он облегченно вздохнул и снова пошел по коридору, сознавая, что враг затаился и выжидает. К солнечному свету удалось выйти без нового приступа.
Сэм Макнамара, охранник у внутренней двери, по обыкновению расплылся было в улыбке, но, увидев напряженное лицо судьи, быстро провел его в комнату. Между Харпуром и этим дюжим ирландцем, единственным желанием которого было кружка за кружкой поглощать кофе, установилась прочная симпатия, странным образом согревающая душу старого судьи. Макнамара поставил у стены складной стул и придержал его, пока Харпур садился.
– Спасибо, Сэм, – произнес судья, оглядывая собравшуюся толпу. Никто не заметил его прихода; все смотрели в сторону солнечного света.
Запах влажной одежды репортеров казался совершенно неуместным в пыльном подвале. В этом, самом старом, корпусе полицейского управления еще пять лет назад хранились ненужные архивы. С тех пор все это время, кроме дней, когда допускались представители печати, голые бетонные стены вмещали лишь записывающую аппаратуру, двух смертельно скучающих охранников я раму со стеклянной панелью.
Стекло имело особое свойство – свет через него шел много лет. Такими стеклами люди пользовались, чтобы запечатлять для своих квартир виды особой красоты.
По мнению Харпура, картина, которую он видел, как в окне, особой красотой не блистала: довольно живописный залив где-то на Атлантическом побережье, но вода была буквально забита лодками, а сбоку нелепо громоздилась, крича яркими красками, станция техобслуживания. Тонкий ценитель пейзажных окон, не раздумывая, разбил бы панель булыжником, но владелец, Эмиль Беннет, привез ее в город – потому что именно этот вид открывался из дома его детства. Панель, объяснял он, освобождала его от необходимости совершать двухсотмильную поездку в случае приступа ностальгии.
Стекло было толщиной в пять лет, то есть пять лет пришлось ему простоять в доме родителей Беннета, прежде чем первый лучик света вышел с обратной стороны панели. И естественно, спустя пять лет, уже в городе, в стекле открывалась все та же панорама, хотя сама панель была конфискована у Беннета полицией, выказавшей глубочайшее безразличие к его отчему дому. Она безошибочно покажет все, что видела, – но только в свое время.
Тяжело сгорбившемуся на стуле Харпуру казалось, что он сидит в кино. Свет в помещении исходил от стеклянного прямоугольника, а беспокойно ерзающие репортеры располагались рядами, будто зрители. Их присутствие отвлекало Харпура, мешало с обычной легкостью погрузиться в воспоминания.
Беспокойные воды залива бросали в комнату солнечные блики, взад-вперед сновали прогулочные лодки, беззвучно въезжали на станцию техобслуживания случайные автомобили. Через сад на переднем плане прошла симпатичная девушка в коротком платьице по моде пятилетней давности, и Харпур заметил, как некоторые журналисты сделали пометки в блокнотах.
Один из наиболее любопытных встал с места и обошел стекло, чтобы заглянуть с другой стороны, но вернулся разочарованный. Харпур знал, что сзади панель закрыта металлическим листом. Как определили власти, выставление напоказ того, что происходило в доме, являлось бы вторжением в личную жизнь старших Беннетов.
Бесконечно долго тянулись минуты, и разомлевшие от духоты репортеры стали громко зевать. Откуда-то из первых рядов доносились монотонный храп и тихое поругивание. Курить вблизи контрольной аппаратуры, жадно фиксировавшей изображение, от имени штата было запрещено, и в коридор с сигаретами потянулись группки из трех-четырех человек. Харпур услышал сетования на долгое ожидание и улыбнулся – он ждал пять лет. А иногда казалось, что даже больше.
Этого дня, седьмого июня, вместе с ним ждала вся страна. Но точно время не мог назвать никто. Дело в том, что Эмиль Беннет так и не сумел припомнить, когда именно в то жаркое воскресенье приехал он в дом родителей за своим медленным стеклом. Следствию пришлось довольствоваться весьма расплывчатым «около трех пополудни».
Один из репортеров – модно одетый, светловолосый и невероятно молодой – наконец заметил сидящего у двери Харпура и подошел.
– Прошу прошения, сэр. Вы не судья Харпур?
Харпур кивнул. Глаза юноши на миг расширились, когда он осознал важность присутствия судьи для готовящегося в печать материала.
– Если не ошибаюсь, вы вели слушание дела... Рэддола?
Он собирался сказать «дела стеклянного глаза», но вовремя спохватился.
Харпур снова кивнул.
– Верно. Но я больше не даю интервью. Простите.
– Да, сэр, конечно. Понимаю.
Репортер быстрой пружинистой походкой вышел в коридор. Харпур догадался, что молодой человек только что определил для себя, как подать материал. Он и сам мог бы написать этот текст:
«Судья Кенет Харпур – тот, кто пять лет назад вел спорное „дело Стеклянного Глаза“ по обвинению Эвана Рэддола, двадцати одного года, в убийстве, – сегодня сидел на стуле в одном из подвальных помещений полицейского управления. Этому уже сейчас старому человеку нечего сказать. Железный Судья ждет, наблюдает, терзается...»
Харпур криво улыбнулся. Он давно перестал испытывать горечь от газетных наскоков и отказался разговаривать с журналистами только потому, что к этому эпизоду в своей жизни ему не хотелось возвращаться. Харпур достиг того возраста, когда человек отбрасывает все малозначительное и сосредоточивает силы на главном. Через каких-нибудь две недели он будет волен греться на солнышке, любоваться игрой оттенков морской воды и засекать время между появлением первой вечерней звезды и второй. Если разрешит врач, он не откажется от капельки доброго виски, а не разрешит – все равно не откажется. Будет читать, а может, и сам напишет книгу...
Как оказалось, Эмиль Беннет определил время довольно точно.
В восемь минут четвертого Харпур и ждущие репортеры увидели приближающегося с отверткой в руке Беннета. На его лице была смущенная улыбка, как у многих из тех, кто попадал в поле зрения ретардита. Некоторое время он возился с креплением, потом небо вдруг безумно накренилось – стекло выбрали из рамы. Через секунду на изображение легло коричневое армейское одеяло, и комната погрузилась во тьму.