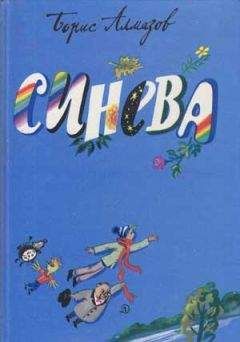свете. Серебро, драгоценности, шелка и туфли сверкали вокруг него. Это было чудесное образование, потому что он вскоре научился оценивать эти вещи по их истинной стоимости, которая низка, поскольку они имеют мало общего с самой жизнью. Его работа была чрезвычайно утомительной. Просто стоять на задних лапах в течение таких долгих часов БЫЛО тяжелым испытанием. Но она не проникала в тайное наблюдательное "я", о котором он всегда знал. Это было выгодно. Если у вас нет интеллекта или его достаточно, чтобы с ним ладить, не имеет большого значения, что вы делаете. Но если у вас действительно есть ум под которым подразумевается та редкая и любопытная сила разума, воображения и эмоций, очень отличающаяся от простой плодовитости разговора и разумного любопытства, лучше не утомлять и не изматывать его по пустякам.
Поэтому, когда он вечером выходил из магазина, как бы ни болели его ноги, голова была ясной и незапятнанной. Он не спешил уходить во время закрытия. Места, где люди работают, особенно увлекательны после того, как суета закончилась. Ему нравилось задерживаться в длинных проходах, смотреть, как быстро приводят в порядок поваленные прилавки, слышать едкий цинизм усталых продавщиц. Для них, кстати, он был чем-то вроде загадки. Пунктуальность его манер, чрезвычайная вежливость его замечаний немного смущали их. За его спиной они говорили о нем как о “герцоге” и восхищались им; маленькая мисс Уиппет, стоявшая у прилавка с чулками, сказала, что он был английским дворянином с длинной родословной, которого несправедливо лишили его поместий.
Внизу, в подвале этого роскошного магазина, была маленькая гардеробная и туалет для работников, где они снимали свои официальные одежды и возвращались к уличному костюму. Его коллеги ворчали и спешили уйти, но Гиссинг устраивался поудобнее. В своем шкафчике он держал детскую ванночку, которую неторопливо наполнял горячей водой. Затем он спокойно садился и мыл ноги. Хотя это было против правил, ему часто удавалось выкурить трубку, делая это. Затем он аккуратно вешал свою одежду из магазина и выходил освеженный в летний вечер.
Теплый розовый свет заливает город в этот час. У подножия каждой улицы Кросстауна горит костер заката. Какое настроение тайной улыбки охватывало его, когда он видел огромную территорию своего наслаждения. Свобода города – фраза, которую он где-то слышал, эхом отзывалась в его голове. Свобода города! Великолепная фраза. Электрические знаки, сначала тускло горевшие в розовом воздухе, прояснялись и крепли. Не свет, а скорее видимая тьма, в тот волшебный час, который просто удерживает равновесие между бледнеющим днем и расточительными драгоценностями вечера. Если идет дождь, то можно беспечно сидеть на крыше автобуса, наслаждаясь порывами и хлестанием ливня. Почему никто не рассказал ему о славе города? Она была гордостью, она была ликованием, она была безумием. Она была тем, чего он смутно жаждал. В каждой черточке ее галантного профиля он видел завоевание, триумф, победу! Пустое завоевание, тщетный триумф, обреченная победа, но в этом была суть драмы. В громовых раскатах немого экстаза он видел всю ее гигантскую ткань, наклоняющуюся и стремящуюся вверх с ужасной тоской. Обожженный безжалостным солнечным светом, залитый пурпурными взрывами летней бури, он видел ее очищенной и чистой. Где были ее поэты-воспеватели, которые никогда не проясняли это?
А потом, после бессмысленного дня, после его счастливой, но бессмысленной тривиальности, толпы, смешанной парфюмерии и глупых учтивых жестов, его благословенное одиночество! О, одиночество, этот благородный покой души! Он любил толпу и множество людей, он любил людей, но иногда он подозревал, что любит их, как любит Бог, на разумном расстоянии. Из-за его довольно бессистемного религиозного воспитания к нему вернулись странные слова. “Ибо Бог так возлюбил мир…” Так возлюбил мир, что … что это? Что Он послал кого-то другого… Когда-нибудь он должен это обдумать. Но ты не можешь все обдумать. Они думают сами, внезапно, удивительно. Сам город – это Бог, – воскликнул он. Разве последнее Божье обетование не касалось города, Города Божьего? Что ж, но это был всего лишь символический язык. Город, конечно, это был всего лишь символ расы для всего его вида. Весь вид, все устремление, страсть и борьба – вот что было Богом.
На паромах, ночью, после ужина, было его любимое место для медитации. Какой-то неоспоримый инстинкт снова и снова выводил его из глубоких и закрытых каменных ущелий в места, где он мог находиться на расстоянии. В этом одна из тонкостей этого прямого и узкого города, что, хотя его пути узки, они являются длинной магистралью для глаз: всегда есть далекая перспектива. Но лучше всего спуститься к окружающей ее воде, где просторы широки: открытость, которая сохраняет ее здоровой и свободной. У кораблей были слова для него. Они пересекли много горизонтов, осколки этой разбитой синевы все еще сияли на их режущих носах. Паромы, самые поэтичные вещи в городе, по ночам почти пустовали: он стоял у перил, видел, как мимо проплывают черные очертания города, видел, как низкое небо позолотилось от их веселья, и был занят своими мыслями.
Теперь о Боге (сказал он себе), инстинкт подсказывает мне, что он есть, потому что, когда я думаю о Нем, я обнаруживаю, что бессознательно слегка виляю хвостом. Но я не должен рассуждать на этой основе, которая слишком щенячья. Мне нравится думать, что где-то в этой вселенной есть непостижимое Существо бесконечной мудрости, гармонии и милосердия, с помощью которого будут поняты все мои желания и потребности; в общении с которым я найду покой, удовлетворение, легкость сердца, превосходящую мое нынешнее понимание. Такое Существо для меня совершенно непостижимо; и все же я чувствую, что если бы встретил Его, то сразу бы понял. Я не имею в виду, что я понял бы Его, но я бы понял свои отношения с Ним, которые были бы идеальными. И я не имею в виду, что они были бы всегда счастливыми, просто они превзойдут все, что имеет социальное значение, которое я сейчас испытываю. Но я не должен делать вывод, что такой Бог существует, просто потому, что было бы так приятно, если бы он существовал.
Тогда (продолжал он) необходимо ли понимать, что это божество по своей сути сверх-собачье? Я имею в виду вот что: во всех, кого я когда-либо знал – в Фудзи, мистере Пуделе, миссис Спаниеле, этих сводящих с ума восхитительных щенках, миссис Перп, мистере Бигле, даже в миссис Чау, миссис Сили и маленькой мисс Уиппет, – я всегда осознавал, что существует некая таинственная точка единения, в которой наши умы могут сойтись и полностью понять друг