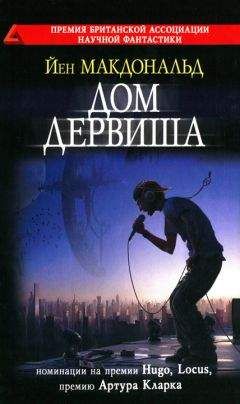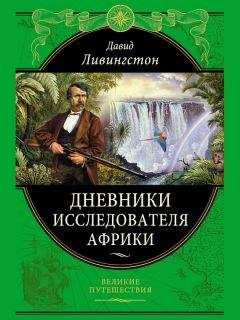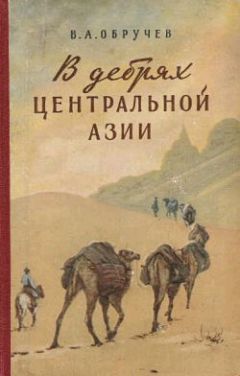Ариана произносит:
— Я знаю.
Георгиос не слышит ее, а если и слышит, то не понимает, что она сказала, собираясь пуститься в долгие объяснения, а потом вдруг спотыкается об эти два слова.
— Что? — Иногда вы помните, что этот вид из вашего окна, этот пейзаж принадлежит другому континенту. Иногда сезонные ветра напоминают вам, что полоска воды, бегущая через сердце вашего города, — это на самом деле безбрежное море. Иногда вы открываете для себя, что частокол облаков на горизонте — это горы.
— Я знаю. Я знала все эти годы. У меня не было доказательств, никто не говорил, поскольку все, кто участвовал в событиях 1980 года, понимали, до чего может довести длинный язык. В те первые дни в Афинах я сходила с ума, я винила тебя за смерть Мерьем. Я ненавидела тебя, ненавидела за то, что ты сделал. Я ненавидела и себя за то, что любила тебя, а ты предал любовь. Я думаю, что на самом деле я ненавидела то, что случилось с Турцией, Стамбулом, миром, который я знала, и саму мысль, что мне не суждено вернуться.
— А ты меня…
— Что?
— Любила?
— Георгиос, двадцать один год от роду обоим, мы были дикие, мы ослепли, слишком долго длилось жаркое лето, а мы ничего не понимали. Мы были детьми. Считали, что пара плакатов и памфлетов и стишки в кафе сметут генералов, как сухую солому. Это несерьезно. Полиция, армия и генералы — все это серьезные люди. У нас не было шанса. И тогда я поняла, что ты должен был сделать, и много лет ощущала свою вину, что жива, потому что погибла Мерьем, а тебя принудили сделать этот выбор.
Сердце Георгиоса глухо стучит. Руки трясутся, кажется, весь мир вокруг замер, а свет качается, словно лампады в мечети, круги света, один за другим. Тот фундамент, на котором стояла его жизнь сорок семь лет, сдуло прочь. То, что было, и то, что могло бы быть, слились воедино. Жизнь, которую он вел, которую сам придумал, а потом примерил на себя, была аккуратно сложена, как неиспользованный свадебный костюм. Годы, годы…
— Достаточно было одного слова. Письма, электронного послания или даже звонка. Просто слова. Я считал, что ты не возвращаешься из-за меня.
— О нет, ты тут ни при чем, — говорит Ариана и берет руки Георгиоса в свои.
— Ты думаешь…
— Не думай. Не спрашивай. Это убьет тебя. Мы живем такие жизни, какие у нас есть, вот все, что нам известно. Мы живем так из-за того, что тебе пришлось сделать. Мы были молоды и думали, что непобедимы, а потому бросились под колеса истории, и она сровняла нас с землей. Но не жалей. На несколько мгновений мы были самыми яркими звездами на небе.
Внезапно Ариана Синанидис начинает дрожать.
— Холодный ветер.
— Слава богу, — говорит Георгиос. — Это Чаркденюмю Фыртанасы.
— Ветер, вращающий крылья мельниц, — говорит Ариана, натягивая шаль на обнаженные плечи.
Сегодня утром на площади Адема Деде настоящее блаженство. Воздух чистый и прохладный, пахнет свежестью, как только что испеченный хлеб или утренняя газета. Все звуки кристальны и слышны. Гул Стамбула распадается на слои, уровни и линии. Громыхание машин, разговоры по радио, шаги по лестнице, чьи-то крики, призывающие пошевеливаться. Внезапно с ревом оживает мотор, а потом успокаивается, работая вхолостую. Шипение газовых горелок в конкурирующих чайных, свист кипящих чайников. Айдын переворачивает хрустящие страницы газеты у себя за стойкой. Капли воды падают в фонтан в виде раковины. Старый дом дервиша поскрипывает, когда деревянные балки потягиваются на солнце. Птицы. Воробьи чирикают, низко летая над улицами и переулками. А надо всем этим над крышами заводит свою песню черный дрозд, обращаясь к Золотому Рогу.
Отец Иоаннис поднимает голову. Аисты все так же скользят над зубчатым прямоугольником неба над площадью Адема Деде, спускаясь к старинным гнездовьям среди надгробий Эюпа. Христос во всем. Обет молчания — это обет слушания.
— Храни вас Господь, — приветствует он греков Эскикей, собравшихся за маленьким столиком. — Сегодня погода по сезону. — Он тяжело садится на низкий стул. Лефтерес не отвечает на приветствие. Он сидит, скрючившись и опустив голову, словно больной стервятник. Лицо желтое, глаза выпучены. Правой рукой Лефтерес прикрывает заламинированный лист формата А4, на краю которого украшения в виде цветочного орнамента и дырка от кнопки. — Что с нашим другом?
— Его заставили снять это, — отвечает Бюлент из кухни, наливая отцу Иоаннису чай.
— Кто? Что? — спрашивает священник.
— Те парни из тариката, — говорит Константин. Он кивает через площадь в сторону темного угла улицы Гюнешли.
— Молодой Хасгюлер? — Отец Иоаннис мешает чай. Кристаллы сахара несколько секунд кружатся, прежде чем раствориться. — Так называемый шейх Исмет?
— У так называемого шейха Исмета полно друзей, — замечает Бюлент. — Они опустили какого-то крутого парня, который попытался решать какие-то свои проблемы силовым методом.
— Это грубо, обидно и вопреки религии, — бурчит Лефтерес. — Типа, неуважение к женщинам! Только послушайте! Неуважение к женщинам! Ваххабиты! В будущем все вопросы будут решаться тарикатом Адема Деде. Тарикатом Адема Деде? Автомеханики, маляры и невежественные мелкие говнюки из геджеконду, которые после медресе нигде не учились? Уличные судьи? Уличный закон? Когда вы родились на этой улице, выросли на этой улице, проработали здесь пятьдесят лет, когда вы видели и помните все те перемены, что произошли с этой улицей и городом, когда вы знаете название каждой двери в каждом доме, когда вы каждое утро своей жизни садитесь и пьете чай на этой улице, то тогда, возможно, у вас есть право говорить мне об уличном законе. Вы же не местные, вы не понимаете, что тут к чему. Это не кадисы и не уличный шариат. Главное — всех знать, пользоваться уважением. Это все еще общество стыда. Стыд срабатывает, а не «уличный закон». Уличный закон? Я сам себе гребаный уличный закон, простите, святой отец.
Но все за низким столиком понимают, что власть Лефтереса сломлена. Ему бросили вызов и победили. Время памфлетов кануло в прошлое. Настала эра божественного закона.
— Теперь у них есть пушки, — мрачно сообщает Бюлент. — Со вчерашнего утра много чего произошло, отец. Полиция закрыла галерею.
— Госпожи Эркоч?
— Ага, а ее саму арестовали. Вроде как она увязла в контрабанде. Вчера утром после вашего ухода полиция провела обыск, вывезли целые коробки всякой всячины и опечатали галерею. А потом внезапно печать сняли, все вернули, типа, она чиста.
— Как такое возможно? — спрашивает отец Иоаннис.