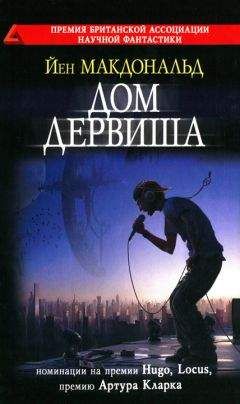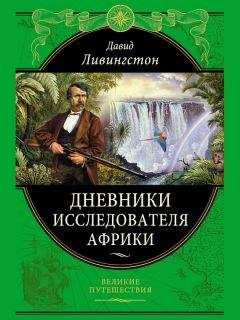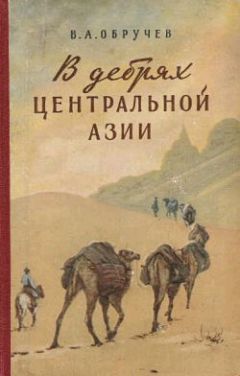Шаль сползает с плеч, обнажая их. С темной воды долетают водоворотами потоки теплого воздуха, которые приносят ароматы розы и запах выхлопных газов.
— Разумеется, — Георгиос легко переключается на другой язык. — Уверен, тебе показалось, что Стамбул сильно изменился.
— Кое-где я его с трудом узнаю, а иногда кажется, что не так уж сильно он и изменился. Старые дома все здесь, даже некоторые магазины. Где-то поменялись вывески, но там все равно торгуют сигаретами и газетами. На Казанджи Месжид до сих пор есть лотерейный киоск. А фонтан на улице Чукурлу Чешме все так же подтекает. Все кажется меньше и кучнее.
Во время паузы подходит сомелье. Напитки заказаны. Георгиосу — вода, а Ариане — скотч, мужской напиток. Она просит сомелье принести определенную марку. У сомелье такой марки нет, но он предлагает аналогичную. Годится.
— Прости за наглость, что привело тебя обратно в Стамбул? — Георгиос зачарован ее тонкими пальцами, сжимающими тяжелый стакан. Интересно, каким она его видит, осталось ли в нем что-то от того худого, робкого неопытного революционера или он — едва узнаваемая гора усталого мяса?
— Дела. У моей семьи все еще есть кое-какая собственность в Бейоглу, и я пытаюсь организовать трастовый фонд.
— У тебя есть дети?
На ее лицо набегает легкая тень.
— Нет, я выбрала для себя иную жизнь. Но у меня есть внучатые племянники и племянницы, я их очень люблю и хочу, чтобы они что-то получили. Мы не становимся моложе, но я возлагаю на них большие надежды. А у тебя дети есть?
— Нет, нет, ничего такого. Холостяцкая жизнь академика. Я живу один. Около десяти лет назад, потеряв место в университете, я переехал в Эскикей, в Бейоглу почти не осталось уже греков, а если и остались, то старые и усталые, как я. У меня квартира в старом доме дервиша, по-своему там даже мило. Мне подходит. Мне не нужно особого шума. Я полюбил соседского мальчишку, он мне как сын. Единственный ребенок. У него проблема со здоровьем. Я за него беспокоюсь, но тут уж не убережешься, обычно в наши дни сначала обвиняют, а потом задают вопросы. Все виноваты, пока не доказано обратное. Но ты, похоже, очень преуспела.
Ариана принимает комплимент без самоуничижения или притворного жеманства.
— Я думаю, ты хочешь сказать, что мне удалось достичь компромисса. Успех — это когда меньше становится умерших детей. Прости за грубость и пафос. Я теперь меньше работаю на местах, в основном лекции и семинары. Самое сложное — это работа с неправительственными организациями, у всех своя специфика, у всех свой кружок, и все ненавидят друг друга. Лучше уж правительства или военные диктаторы, с ними, по крайней мере, понятно, где ты. Маленькие группы — это естественный уровень социальной организации людей, и с ними труднее всего работать. Политика просто не может совладать с такими группами.
Приносят меню. Все блюда изысканные и роскошные, они демонстрируют, насколько скромную и монашескую жизнь вел Георгиос: если не ел ложкой прямо из консервной банки, то был вполне доволен скудностью и монотонностью. От обилия блюд кружится голова, он хочет всего и сразу, не может выбрать. Но выбирать нужно, а потому он это делает, а разговор продолжает крутиться вокруг международной миротворческой деятельности Арианы. В итоге она посетила разные страны с одной и той же ключевой проблемой — мужчины убивают друг друга. Достижения Арианы огромны, но у Георгиоса возникает ощущение, что она больше не уверена, что правильно прожила собственную жизнь. Жестокости не будет конца, пока на свете есть молодые мужчины.
— Боюсь, я никогда не был силен в заботе о ближнем, — говорит Георгиос. За первым блюдом они вообще не разговаривают. Это было бы неуважением к шеф-повару.
— Во время твоих путешествий ты когда-нибудь возвращалась в Стамбул? — спрашивает Георгиос, когда уносят тарелки.
— Нет. Никогда. Пока не пришлось. Я пробыла вне Стамбула намного дольше, чем жила здесь. Мой дом в Афинах.
— Тебя здесь помнят.
Ариана кутается в шаль.
— Не уверена, что хочу этого. Такое впечатление, будто я призрак, правда, пока живой.
— Ты ходила к старому дому?
Ариана качает головой.
— Его давно уже нет, там двадцать лет как хостел для туристов.
— Хорошо, — говорит она.
Приносят основные блюда: ягненок для Георгиоса, рыба — Ариадне. Под рыбу, красную кефаль, она заказывает ракы, местную водку, и это правильно. Георгиосу всегда казалось, что рыба — слишком простое блюдо для изысканного ресторана. Просто какая-то мертвая штуковина на тарелке. Зато его ягненок роскошный, тает во рту. Боже, как он плохо питался! Георгиос хотел бы есть ягненка вечно, но удовольствие от еды именно в ее конечности, поэтому сначала он съедает гарнир, оставляя мясо напоследок. Главное блюдо позади, вечер проплывает мимо, словно освещенные корабли, а он так и не сказал того, что должен сказать.
— Ты контактировала с кем-то из старой группы?
Снова тень ложится на лицо Арианы.
— Я не осмеливалась. Я знала, что у них есть агенты и в Афинах.
— Мудро. Ты знаешь, что с ними случилось?
— Знаю, что Ариф Хикмет умер пять лет назад.
— Он отказался пойти с ними на сделку.
— Настучать на остальных.
— Да, а им нужно было показательное наказание. Когда правительство сменилось, то его выпустили, но он так и не смог получить должность в газете. Он попробовал себя в политике, сформировал собственную небольшую партию, которая потом слилась с Партией труда, а потом и с Турецкой рабочей партией.
— Девлет Сезер?
— Девлет Сезер умер десять лет назад. Рак. Скурился до смерти. Его не публиковали, он анонимно вел колонку в «Хюрриет» про тайную историю города и старые типажи. Стал своего рода знаменитостью.
— Реджеп Гюль?
— Он уехал в Германию и стал исламистом. Ну таким исламистом, как все в Турции. Занимался проблемой дискриминации гастарбайтеров. Действовал через сеть мечетей. Погиб во время поджога в Дрездене, бывшей Восточной Германии. На востоке нетерпимо относились к туркам.
— А Мерве Тюзюн?
— Она получила три месяца за агитацию, а когда вышла, не смогла устроиться учителем, переквалифицировалась в поэтессу. Пишет под именем Тансу. Ее ценят и много печатают.
— Тансу. Мне кажется, я слышала это имя. Она всегда читала свои стихи на собраниях в кафе «Каракуш». Ужасная лабуда.
— Видимо, исправилась.
Ариана подается вперед.
— А Ариф Кезман, с ним что?
Каждый раз, когда она произносит очередное имя, Георгиос видит их в толпе в кафе «Каракуш», память и время замедлили кадры, лица ужасно молодые, волосы ужасно длинные, а одежда просто ужасная. Видение замедляется, пока все они не застывают как один с открытыми ртами, поднятыми в воздух кулаками, топающими по полу ногами, они обнимают друг друга, и полы пиджаков разлетаются. Или же они стоят в пикете на площади Таксим, губы искривились в крике, в пении, руки отталкивают оружейные стволы. А вот они все щурятся на солнце, обнявшись, как братья, с бокалами шампанского, на фоне бело-голубого бассейна Мерьем Насы. Революционеры 1980 года.