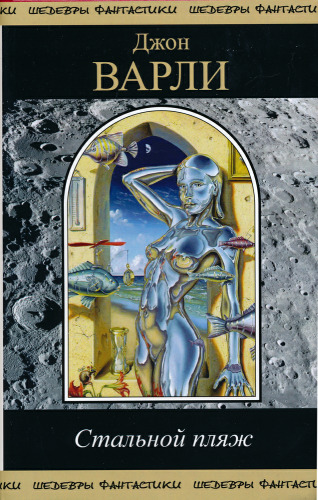я проснулся из-за вкуса перечной мяты во рту. Стал разбираться, и оказалось, что виноват новый вид ботов. Какой-то дурак придумал их, собрал и напустил на ничего не подозревающих жителей. Это было в воде, Хилди! Представляете?
— Вопиющее безобразие… — промямлила я, пряча глаза.
— Ну и вот, я создал противоядие. Может, у меня во рту и отдаёт гнилью по утрам, но по крайней мере это мой собственный вкус. И напоминание о том, кто я есть.
Полагаю, его слова — великолепный образчик и своенравия хайнлайновцев, и культурной пассивности, против которой они восстают. И весомая причина, по которой они мне нравятся, несмотря на все их усилия искоренить мою симпатию.
— Теперь всё будто падает с неба, — продолжил Смит. — А мы, как дикари, сгрудились у алтаря и ждём, пока нам ниспошлют очередное чудо. И даже вообразить не способны, какие чудеса можем сотворить, если возьмёмся за дело сами.
— Совсем как маленький народец, ростом не выше восьми дюймов и не умнее лабораторных крыс.
Смит поморщился — первый признак моральной неуверенности, который я у него подметила. Слава богу! Мне нравятся люди, имеющие собственное мнение, но те, кто не испытывает сомнений, меня пугают.
— Хотите, чтобы я оправдывался за это? Хорошо. Я воспитал детей в духе свободомыслия, научил их думать самостоятельно и ставить под сомнение любой авторитет. Но не безгранично: или я, или тот, кто лучше разбирается в нужном вопросе, проверяет их проекты и может запретить; мы не спускаем с них глаз. Мы создали место, где они вольны устанавливать собственные правила, но всё же они дети и потому обязаны следовать нашим. Но мы стараемся ограничиваться минимальным количеством запретов. Понимаете ли вы, что здесь единственное место на Луне, куда не может заглянуть наш механический диктатор? Даже полиция не может явиться сюда.
— У меня нет причин любить Главный Компьютер.
— Я и не думал, что есть. Считаю, вам есть что рассказать по этому поводу, иначе я никогда не впустил бы вас сюда. Расскажете, когда будете готовы открыться. А знаете, зачем Либби создаёт маленьких человечков?
— Я его не спрашивала.
— Он мог бы сам сказать; мог и не говорить. Это его вариант решения проблемы, над которой я работаю: межзвёздных путешествий. Он рассудил, что человеческому существу меньших размеров требуется меньше кислорода, меньше еды и меньший космический корабль. Если бы мы все были ростом восемь дюймов, то могли бы долететь до Альфы Центавра в бочке для топлива.
— Это глупо.
— Не глупо. Возможно, забавно. И почти наверняка недостижимо. Пупсы живут примерно три года, и я сомневаюсь, что в конце концов у них прибавится ума. Но это новаторское решение вопроса, над которым на Луне вообще никто не работает. Почему, вы думаете, Гретель бегает по поверхности в чём мама родила?
— Вы не должны были об этом знать.
— Я запретил ей. Это опасно, Хилди, но я знаю Гретель и знаю, что она продолжает пытаться. И всё потому, что надеется в конце концов привыкнуть жить в безвоздушном пространстве без вспомогательных устройств.
Я подумала о рыбе, выброшенной на берег и барахтающейся — возможно, обречённой, но всё равно барахтающейся. И сказала:
— Эволюция так не работает.
— Я это знаю и вы знаете. А попробуйте убедить Гретель. Она дитя, умное, но по-детски упрямое. Рано или поздно она сдастся. Но, готов поручиться, она изобретёт что-нибудь ещё.
— Надеюсь, менее легкомысленное.
— Ваши бы слова да Богу в уши. Порой она… — он потёр лицо и отмахнулся. — Пупсы и меня смущают, готов признать. Никак не удержаться от вопросов, в какой степени они люди, а если люди, есть ли у них какие-либо права и должны ли быть.
— Они — результат экспериментов над людьми, Майкл, — сказала я. — Наши законы на этот счёт недвусмысленно строги.
— А у нас есть табу. Мы много экспериментируем с человеческими генами. Но что у нас под запретом, так это создание новых людей.
— Вы не считаете, что это хорошая мысль?
— Всё не так просто. Я не приемлю огульного запрещения чего бы то ни было. Я долго и тщательно изучал этот вопрос — поначалу был против, как, кажется, и вы. Хотите услышать больше?
— Было бы замечательно.
Мы перешли в ту часть двигательного отсека, что, по моим догадкам, служила Смиту офисом или лабораторией. Именно здесь я пробыла большую часть времени, что мне довелось провести с ним. Ему нравилось класть ноги на деревянный стол — такой же древний, как у Уолтера, но куда более потрёпанный, — устремлять взгляд в бесконечность и рассуждать. Его прирождённая осторожность по-прежнему удерживала его от излишних подробностей по любому поводу в моём присутствии, но я чувствовала, что ему нужно мнение постороннего человека. Лаборатория? Представьте её полной реторт с кипящими жидкостями и раскалённых цепных конвейеров. Не представляйте только массивное тело, пристёгнутое ремнями к столу; это прерогатива Смитов-младших. Это место совсем не походило на сцену с декорациями, но в переносном смысле было им.
— Вопрос в том, где именно провести границу, — сказал Смит. — А проводить границы надо; это осознаю даже я. Но они постоянно сдвигаются. В развивающемся обществе границы должны быть подвижными. Знаете ли вы, что когда-то прерывание беременности было незаконным?
— Слышала о таком. Это кажется очень странным.
— Было решено, что плод уже человек. Впоследствии мы разубедились в этом. В обществе было принято держать мёртвых людей подключёнными к устройствам под названием "искусственное жизнеобеспечение", порой очень долго, лет двадцать или тридцать. И отключать аппаратуру запрещалось.
— Вы имели в виду, мозг этих людей был мёртв.
— Они были мертвы, Хилди, по нашим стандартам. Кровь прокачивалась через трупы. Безумно странно и адски страшно. Можете только гадать, о чём думали их родственники, что могло двигать ими. А когда люди знали, что умирают, и знали, что смерть будет ужасной, мучительной, их осуждали за мысли о самоубийстве.
Я отвела глаза; не знаю, раскусил ли он меня, но думаю, что да.
— Даже врач не мог помочь им умереть, — продолжал Смит, — иначе его привлекли бы к ответственности за убийство. Иногда им даже отказывали в препаратах, которые эффективнее всего могли бы прекратить боль. Употребление любых снадобий, притупляющих чувства, вызывающих душевный подъём или изменяющих сознание, считалось греховным — исключение делалось только для двух наркотиков, приносящих наибольший физический вред: алкоголя и никотина. А что-нибудь относительно безопасное, такое как героин, было под полным запретом, поскольку вызывает привыкание — как будто алкоголь не вызывает. Ни у кого не было права решать, что ввести себе в тело, не было ни