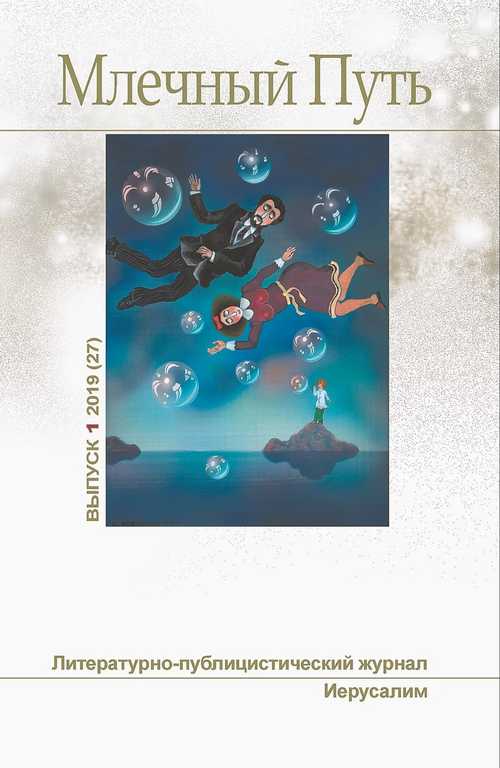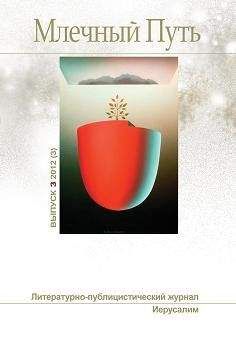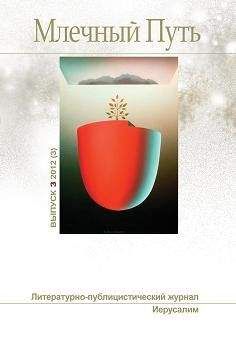уже неотвратимой, руководители еврейской общины нашего города и прежде всего многомудрый профессор Михаэль Вайсман, решились на отчаянный, но единственно правильный шаг - они перехватили инициативу. Как? Сейчас поведаю.
Раздается у меня звонок. На проводе профессор Вайсман. Он, можно сказать, берет быка за рога.
"Господин Розенфельд, - говорит, - знаете ли, что в нашем городе готовится акция, в которой должны принять участия сотни людей. Сначала они разделаются с вашим зятем, вашей семьей и вашим имуществом, а затем наведаются и в остальные еврейские семьи, проживающие в нашем городе".
"Увы, - отвечаю, - слышал об этом. И, откровенно говоря, не знаю, какое чувство во мне сильнее - страх за свою жизнь и за свой дом или стыд за то, что по вине члена моей семьи жизни наших евреев оказались в опасности".
"А что вы думаете, - спрашивает профессор Вайсман, - о вашем зяте, господине Гольдмане?"
"Что думаю? - отвечаю, - Думаю, что, хотя наше правительство и объявило еще в сорок пятом, дескать, фюрер перегнул палку в отношении евреев, но глядя на некоторых из них, вроде моего зятя, я думаю, что может быть он и не так уж был неправ!"
"Ну что ж, - говорит профессор Вайсман, - тогда надеюсь, мы поймем друг друга. Как бы то ни было, иногда приходится ради спасения жизней десятков людей жертвовать одним".
И вот в прошлую субботу у здания синагоги, в которой давно уже никто не молится потому, что молящихся евреев нет в нашем городе, но которая является символом еврейства, чего не скажешь о сером неприметном доме, где располагается центр еврейской общины, так вот, у здания синагоги собирается толпа человек семьдесят, все до одного евреи, поднимают плакат "Смерть выродку!" - и прямым ходом к нашему дому. Немцы смотрят и дивятся - мы, мол, говорили, "все вы заодно", а вы-то, оказывается, вон какие!
Профессор Вайсман звонит мне и говорит: "Господин Розенфельд, боюсь, если ваш зять не выйдет к нам сам, дом придется подвергнуть разграблению".
Я бросаюсь к кабинету Бертольда, а дверь заперта. Ну, пока я с ключом возился да дверь пытался высадить, они и ввалились. Впереди - профессор Вайсман. Я, как услышал шаги на лестнице, бросился к дверям и встретил гостей на пороге. Профессор первым делом отвесил мне пощечину - не сильно, не больно, можно сказать - для вида. Отодвинули меня в сторону - и вперед, к кабинету Бертольда! Человек восемь их было - остальные на лестнице да на улице остались. Дверь, что передо мной была заперта, словно сама собой распахнулась перед ними. И поверх их голов я увидел Бертольда - черную фигуру на фоне окна. Я увидел Бертольда, вознесшегося над ними, над нами, над всеми, над всем! И я поразился - какой же он огромный! Казалось он крупнее всей этой ввалившейся еврейской мелюзги вместе взятой. И поверх их голов он глядел прямо мне в глаза. А я - ему. И мы, всю жизнь находившиеся на противоположных полюсах, в это мгновение поняли друг друга. А потом - крик профессора Вайсмана: "Бертольд, нет!" И еще чей-то вопль: "Не надо!" И - исчез силуэт его черный. Был - и нет! И солнце жгучее сквозь белое окно - прямо на глаза мне опрокинулось.
Все ахнули и бросились к окну, и - вниз смотреть! А что там нового увидеть можно - проверять, на месте ли он, не отросли ли у него крылья?
На лестнице никого не было. Те, что толклись там во время выстрела успели уже сбежать вниз, а профессор Вайсман и его команда так наверху и остались, пребывая в ступоре. И когда я вышел из подъезда, все на улице так почтительно передо мной расступились, словно не мне, а Бертольду последний долг отдавая. И когда я Бертольда увидел, меня не лужа крови поразила - что я крови в Дахау не видел? Нет, меня поразило, какой он маленький посреди улицы, вот на этой брусчатке, ровной, как клавиши у пишущей машинки, словно что-то хотел напечатать, о чем-то поведать обступившим его евреям... И еще - он лежал не под окном, а в стороне от дома, будто он с окна не шагнул в пропасть, а с силой оттолкнувшись, прыгнул. А может быть, действительно прыгнул? Ведь у себя в университете Бертольд был чемпионом курса по прыжкам в длину.
За спиной послышались всхлипы. Я обернулся. Люди, явившиеся разобраться с Бертольдом, теперь растирали по щекам слезы. А на что они рассчитывали, когда шли сюда? Что дело ограничится несколькими синяками? Или что смерть выглядит изящнее и безобиднее?
Вот так, мой дорогой Гельмут. Со смертью Бертольда все у нас переменилось. В тот же вечер в старую синагогу впервые за десятилетия пришли люди на молитву. Те же ли это были люди, что стали свидетелями и в какой-то степени соучастниками гибели Бертольда, не знаю. Я до синагоги так и не дошел.
Газетная кампания и митинги во мгновение ока прекратились, словно по чьей-то команде. Соседи перестали на меня коситься, а даже как-то теперь виновато при встрече отводят взгляд. Дитер и Эльза с детьми вернулись в город, а я наоборот уехал в загородный дом. Так что гуляю по лесу, наслаждаюсь запахом новорожденных клейких листиков - скоро ведь праздник, двадцатое апреля!
Одно только тяжело - едва начинаю листать альбомы моего любимого Дюрера или ставлю "Бранденбургский концерт", как перед глазами встают залитые кровью глаза Бертольда, а то вдруг такая большая-большая мостовая, а посередине такой маленький Бертольд. И возникает странное, дурацкое чувство, будто это Дюрер с Бахом убили его.
Плохо мне, Гельмут! Приезжай в Эйзенах, выпьем, я - "Либфраумильх", а тебе по традиции подберу чего покрепче. А хочешь - брошу все и уеду к тебе в холодный и туманный Киль. Может быть, навсегда. Крепко обнимаю, твой Вернер.
P.S. Только что по радио услышал выступление нашего бургомистра. Он сказал буквально следующее: "К сожалению, недавно мы с вами стали свидетелями усиления антисемитских настроений в связи с известными событиями. Помните, дорогие соотечественники - народ не отвечает за встречающихся в его рядах негодяев. В конце концов, полковник Штауффенберг, убивший нашего любимого фюрера, был чистых немецких кровей".
Русалка лежала лицом к небу. Пожелтевший хвост наполовину скрывался в море, неправдоподобно яркие зеленые волосы облепили камни, путаясь в расщелинах, что, видимо, и не давало ей