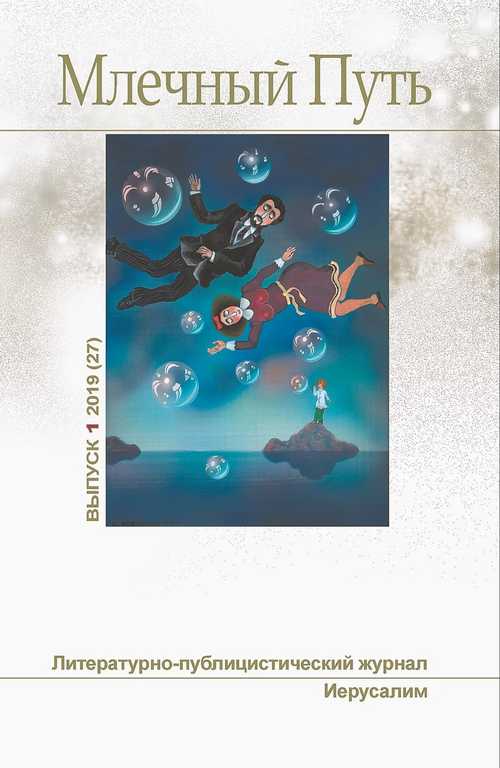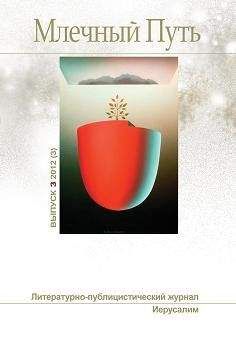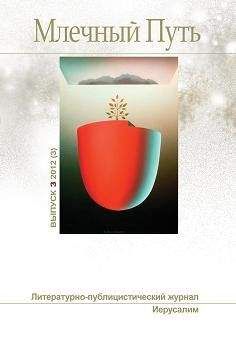class="p1">Она опять права. А девочка быстро вытерла слезы и хмуро сказала:
- Но я тебе все равно помогу. Потому что ты меня пожалел... И вообще. Хотел, чтоб мне было тут хорошо. Ну... Тебе нянька ведь уже рассказала про котика? Вот и думай... Из огня я могу создать что угодно. И кого угодно. Из углей - углеродный каркас, а дальше... Ну? Что, если ты получишь в наследники себя самого?
- ...Себя самого?!
- Ну, не старенького, как сейчас, - великодушно сказала она. - А младенчика. От нуля. Как бы новорожденного. И будешь воспитывать, как тебе надо. Только я не знаю... Поможет ли это твоему миру.
- Поможет. Если ты останешься и будешь учить его вместе со мной. Всему, что знаешь сама.
- Нет, - грустно сказала она. - Если я прикоснусь к нему, я сама превращусь в камень. В черный кварцит. А то и в габбро. Так что? Лепить младенца?
Потеряв дар речи, он кивнул. Девочка сорвалась с места и побежала к камину, разворошила кочергой горящие дрова, отбросила кочергу и схватила на руки пылающую головню и стала качать, как куклу или ребенка, что-то неслышно мурлыча - и все смотрела, смотрела не на головню на руках, а в огонь. Будто видела что-то прекрасное с той стороны огня.
Она - не маленькая, - вдруг почуял он. Она - древняя, как земля. Ее сила - сродни первородному огню, миллиарды лет плавившему горные породы. Она сама - огонь и камень... Природа. Девочка.
Сейчас уйдет, - обожгло сердце. Одна. Навсегда. Он больше ее никогда не увидит... Что же делать? Удержать? Удержать здесь это чудовище? Но... Мысли путались.
Почему не горит ее платье? Волосы? Почему... Вопросы умерли в его уме, когда он увидел, что головня, пылая, шевелится в ее руках, а она нежно укутывает корчащееся малиновое, светящееся тельце в пеленки, которые торопливо выхватывает из пламени камина. Так не бывает, - жалко содрогнулся его старый ум. Ныло колено. Он на миг закрыл глаза. Открыл. Девочка нежно положила пылающую куклу на латунный лист перед камином, поправила пеленки. Кукла шевелилась. Беззвучно открывала черный ротик.
- Это ты, - устало сказала ему девочка. - Твое подобие. Твои гены. Клон. Не бойся. Может, у твоего мира и появится надежда... И вы что-то поймете о природе вещей. И о девочках. Три тысячи лет - не так и мало.
Он почти не слышал ее. Ребенок на латунном листе перед камином светлел и барахтался. Издавал детские слабые звуки... Зачем тут положили ребенка? Спасаясь от безумия, он посмотрел на девочку. А она вздохнула, пожала плечами, отвернулась - и прыгнула в огонь, как в протянутые навстречу руки.
Исчезла.
Превратилась в огонь и исчезла.
Огонь в камине тоже исчез. Потух. Ни искры, ни уголька. Ребенок на полу закричал, молотя белыми кулачками, сильно и громко закричал, требуя рук, любви, жизни. Не думая, он подхватил на руки теплое тельце: полное подобие. Черные жесткие - его - волосы, и морщится... Он сам так морщится... Сердце взорвалось. Все. Вот оно - спасение. Наследник.
Он не отходил далеко, когда вызванные няньки во главе со старшей старухой развели хлопоты вокруг ребенка. Не мог. Сердце замирало, когда он слышал детское кряхтение и вяканье. Няньки принесли пеленки, одеяльца, устроили возню - и все что-то лепетали, мурлыкали нежное. Зачем они так - ведь это будущий властитель, надо... И тут до слуха отчетливо донеслось:
- ...да ты наша умница, да ты наша красавица ясноглазая, - приговаривала старуха. - Стелите одеялко... Да не то, а вон, беленькое, помягче... Девочка ведь. Ты наша ненаглядная, ты солнышко ясное...
...Девочка?!
Александр Казарновский.
Орден Гитлера
Здравствуй, мой дорогой Гельмут!
Сильно скучаю по тебе с тех пор, как ты переехал из нашей благодатной Тюрингии в свой холодный Киль. Наверно, твои северные края по-своему тоже прекрасны - Германия повсюду Германия, но все же нигде нет таких горных озер и ущелий, как в нашем родном Гарце. Я понимаю, что тебя в первую очередь волнуют события, связанные с нашей семьей, о которых, содрогаясь, сегодня говорит вся Германия. Увы! Увы! В мире моем все было так безоблачно! Дитер перешел на третий курс университета, Франц успешно занимался медицинской практикой, а я заканчивал очередную монографию по раннему Дюреру. Чувствовал, что годы берут свое, и все чаще у меня возникало желание все бросить и отправиться в свой загородный дом в окрестностях Эйзенаха и там погулять по лесу, а вечером прикорнуть в кресле-качалке перед телевизором или поставить пластинку "Бранденбургского концерта", налить себе бокал моего любимого "Либфраумильх" опуститься во все то же кресло, укрыть ноги пледом и погрузиться в наслаждение. В общем, все спокойно было в моей жизни, все было бы спокойно, если бы - если бы... да-да, разумеется, ты прав! Если бы не Бертольд Гольдман! Эх, Бертольд-Бертольд!
А помнишь, Гельмут, как на его свадьбе с моей маленькой Эльзой ты чуть-чуть - действительно чуть-чуть! - перебрал шнапса. Да... Кто бы мог тогда подумать, что именно этот тихий, интеллигентный Бертольд станет причиной наших невзгод.
Поначалу все было хорошо. Он быстро подвигался по службе... даже слишком быстро.
Впервые нехорошее предчувствие закралось ко мне в душу два года назад 20 апреля, когда он отказался праздновать с нами годовщину прихода в мир нашего фюрера и устроил безобразный скандал.
"Я, - орет, - отмечать день рождения этого ублюдка не собираюсь!"
Я ему так спокойно:
"Не кричи, соседи услышат".
А он этак зло:
"Пусть слышат! Пусть знают, что двадцатого апреля они празднуют день рождения выродка и убийцы!"
"Прежде всего, - говорю, - не кипятись! Нравится тебе фюрер или нет, но он пал от рук террористов в июле сорок четвертого, а сейчас на дворе семидесятый. Пора бы и успокоиться".
"Не хочу успокаиваться! Он нас, евреев, в газовые камеры отправлял!"
"Ну, - говорю, - как видишь, всех не отправил. Мы с тобой живы, да и война окончилась на следующий день после убийства фюрера, и вскоре все повозвращались - кто из эмиграции, кто из лагерей, а кто, между прочим, и в Германии отсиделся. Так что сейчас нас на Германии тысяч сто пятьдесят наберется. И сразу же после его трагической гибели - слышишь, сразу же! - признали власти, что были в этом вопросе перегибы. В таких вот исполинах, как был покойный фюрер