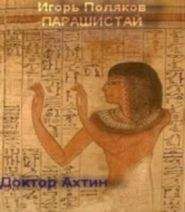— Я уже устал ждать, когда ты вернешься.
Судя по голосу, это Валентин. Или Агафон. Я помню, что произошло в пещере, и это хорошо. В памяти нет провалов, — ни минутных, ни часовых, ни суточных.
— Знаешь, — голос Агафона тих, добр и загадочен, — с тех пор, как ты появился в моей жизни, я не могу успокоиться. Ты, как гвоздь в жопе, не даешь спокойно жить. И, главное, я никак не могу понять, почему так происходит. В чем фишка? Я ведь вижу, что ты не такой, как все люди. Например, Виктор вполне понятный человек, живет в лесу, берет деньги и делает своё дело. А вот ты, — пришел ниоткуда, наплел с три короба про болото и потерянный месяц, лишнего не говоришь, чувствую, что знаешь много, и не поймешь, зачем ты здесь? Признайся, или я сделаю тебе больно.
Я молчу, потому что мои признания ни к чему не приведут. К тому же, я знаю, что Валентин не сможет сделать больнее, чем уже есть.
— Если ты не будешь говорить, я сломаю тебе пальцы на руках. Возьму камень и буду бить по суставам, пока не твои ладони не превратятся в лепешки.
Я не чувствую руки, поэтому угроза бессмысленна.
— Или сделаю яичницу из твоих яиц, — хохотнув, говорит Валентин.
И эта попытка не увенчалась успехом.
— А, может, мне просто поджарить тебя?!
Зрачки перед моим лицом исчезают, и через секунду я вижу огонь. Факел приближается к лицу, и я инстинктивно закрываю глаза. Чувствую горячую боль и запах горящих волос. Головная боль отступает на задний план, словно огонь отпугивает её. Наверное, я кричу, но мне кажется, что звуки, которые исторгает мой рот, это смех. Или мне хочется, чтобы это был смех.
Огненная боль уходит, оставляя после себя ощущение расплавленной и стекающей по лицу кожи. Теперь боль другая, — пронзительно жгучая, и я с удовольствием отдаюсь ей, забывая на мгновение, что Валентин рядом.
— Ну, как тебе? Почти, как на сковородке, не так ли?
Открыв глаза и разлепив спекшиеся губы, я пытаюсь что-то сказать. Он видит это, и зрачки вновь возникают передо мной.
— Ну, давай, говори.
— На самом деле, ты очень хочешь расколоть череп и сожрать мой мозг.
Зрачки Валентина застывают в ужасе. Я только что высказал его мысли, которые постоянно вертятся в его голове. Постоянно зудят, требуя удовлетворения. Он уже устал бороться с собой. Он в своем сознании уже столько раз добирался до моего мозга, что именно сейчас он может претворить свои желания в жизнь.
— Агафон!
Зрачки отдаляются от меня, и я вижу недовольное лицо Валентина.
— Да, отец Федор, я слушаю вас.
В голосе благостная покорность. Валентин, самая благочестивая овца в стаде, склонив голову, стоит перед Пророком.
— Что ты делаешь?
— Пытаюсь выведать у него, зачем он пришел сюда.
— Ну, и что получилось?
— Ничего. Молчит.
Ко мне склоняется лицо проповедника. Он пристально смотрит мне в глаза и спрашивает:
— Скажи мне правду, и я отпущу тебя.
С трудом разлепив губы, я, мысленно усмехнувшись, чуть слышно говорю:
— Конец света уже наступил, ибо Я — пришел. И когда поражу пастыря, то овцы стада его разбредутся, ибо увидят мерзость запустения на святом месте, ибо наступит великая скорбь, которой не бывало от начала времен, ибо апокалипсис, подобно молнии, поразит всех и вся, и к трупам слетятся стервятники, чтобы поживится свежим мясом лжепророков и тех, кто поверил им.
Отец Федор услышал каждое моё слово. Я вижу это по его глазам. Он смотрит на меня с некоторым удивлением, словно я неведомая букашка, которую он готов прихлопнуть. Затем его лицо отдаляется, но зато стремительно приближается ботинок.
И я снова проваливаюсь в бездну.
2.
Когда я вновь возвращаюсь, боль, по-прежнему, со мной, но теперь она тупая. Беспокоит не сильно, но и полностью не исчезает, как бы давая понять, что она всегда будет со мной. Может, это то, что мне надо — через боль всегда помнить о том, что мой путь тернист и труден, что идти супротив стада сложно и муторно, что одиночество — это тяжкая ноша, которую нужно тащить в гору.
Теперь я чувствую тело, но это тоже одна сплошная боль. Видеть я не могу, но понять, что с телом способен. Я отпускаю сознание — это так просто, когда боль окутывает его — и смотрю на себя со стороны.
Моё тело лежит на плоском камне, как бы на возвышении, но значительно ниже, чем стоит отец Федор. Мои руки вывернуты назад и привязаны к ногам, петля затянута на шее: при любой попытке двинуть конечностями, петля сразу затягивается и душит меня. Наверное, так должно быть, потому что я еще не пробовал подвигать руками или ногами.
Пророк говорит, обращаясь к пастве, и я, вернув сознание назад, слушаю:
— Испытание веры бывает всегда, в каждую секунду и каждую минуту. Грех присутствует везде, и в этом мудрость Бога, ибо только так Он сможет отделить зерна от плевел, только таким образом Он приведет Избранных в Царство своё.
— Мало только молиться и выполнять заветы Господа нашего, недостаточно соблюдать ритуалы и постится, трудится во славу Бога и с именем его на устах отдыхать от трудов праведных. Надо каждое мгновение думать о Нем, и сопровождать мысли молитвой, истовой и ежедневной, ибо только так мы сможем увидеть искушающего нас Сатану. Ибо он явит вам чудеса, и, забыв об истинном Боге, вы принесете ему свои души.
— Коварство и хитрость Сатаны огромно и выразительно, — он называет себя доктором и дает вам призрачный шанс на излечение, но есть ли среди нас те, кто излечился?
— Нет! — отвечает громкоголосый хор паствы.
Я улыбаюсь. Я знаю, что тени не способны на благодарность, и теперь я уверен в том, что тени легко предают тех, кто помог им. Так же, как они легко обманывают, когда надо вывернуться и сохранить свою совесть в неприкосновенности. Так же, как они легко предают родных и близких, когда искушение выгодой сильнее родственных чувств. Так же, как они легко перешагивают через трупы, когда встает вопрос об их жизни.
Стадо обречено, даже если пастух уверен в правильности пути.
— Есть ли среди нас те, кто почувствовал облегчение после того, как испытал на себе чары Сатаны?
— Нет!
Звук отрицания отскакивает от стен и возвращается эхом, и я его слышу многократно, словно молоток раз за разом бьет по шляпке гвоздя. Тупая боль в голове усиливается, и в этом есть определенная прелесть — уж лучше боль, чем моё ничем не обоснованное доброе отношение к тем, кто приносил ко мне телесное страдание.
Иногда я думаю, что мой основной и главный Дар — убивать.
— Сатану можно убить только сообща. Только, когда мы все вместе скажем ему — нет! Только, когда в едином порыве мы нанесем ему удар. Есть ли среди нас хоть кто-нибудь, кто встанет на его защиту? Ибо если таковой будет, даже если он только мысленно желает ему добра, мы не сможем одолеть Сатану.