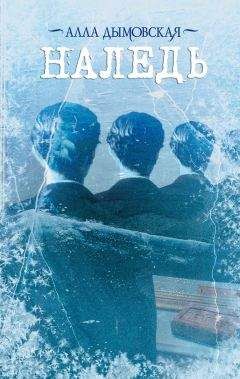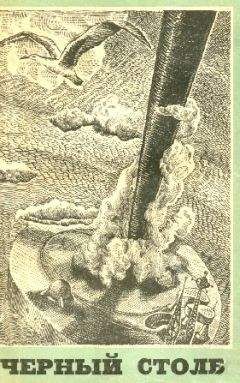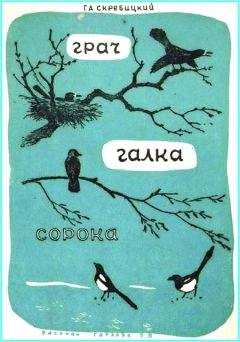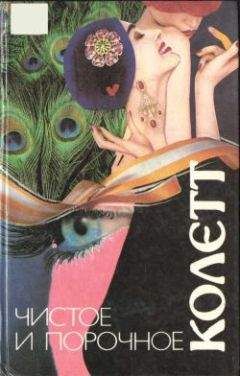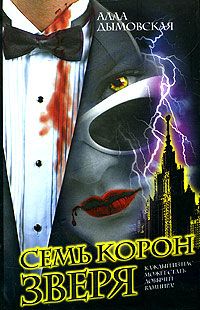— Говорят… в смысле Месопотамский мне открыл, будто у вас бесценная и тайная библиотека. Не из тех ли реконструкций?… — И, не дождавшись никакого ответа на вопрос, Яромир почти жалобно попросил: — Мне бы посмотреть?
— Может быть. Даже, наверное, — задумчиво сказал ему Ермолаев-Белецкий и словно в этот момент пришел в себя, одумался: — Но вы сначала с Доктором разберитесь. Библиотека моя, видите ли, такого рода, что показывать ее каждому и всякому нельзя. А чтобы стать некаждым и невсяким, нужно совершить над собой определенное духовное действие.
— Это какое же? — В воображении Яромиру отчего-то сразу представились чередой унылые попы с кадилами и наперсными крестами, еще старушки в темных платах на коленях перед алтарями. Молиться, что ли, научал его Ермолаев-Белецкий? Нет, не похоже.
— Захотеть решиться и решиться захотеть, — непонятно и странно ответил ему Митенька. Он отвлекся в сторону, на зимнюю жирную муху, бившуюся с ленивым жужжанием о мутное от грязи кухонное стекло.
Яромир понял, что пора прощаться. У него страшно замерзли ноги, все равно что босые, даже и хуже — окаянные тапочки, набравшись тяжелой влаги от земли, сулили своему владельцу грядущую простуду.
— Что же, не буду вам мешать. А насчет печки я в ближайшие дни зайду непременно, — повторил обещание Яромир и протянул соседу руку для пожатия.
Ермолаев-Белецкий сделал ответный и встречный жест, без особенного энтузиазма, будто бы гость его и тяготил, но, когда инженер уже стоял в дверях, дал понять, что нынешний разговор был делом для него не безразличным:
— Хорошо запомните. Разорение гнезда всегда начинается с тени коршуна над ним, — и отвернулся резко, как бы тем самым подчеркивая значительность сказанного и ставя решительную точку в конце поучения.
Остальная часть дня, на взгляд Яромира, прошла крайне и чудовищно бестолково. Никаким стройным размышлениям у него не получилось предаться, вовсе не оттого, что мешали или завлекали иные заботы, а только впал он словно бы в умственный ступор. Чувства жили и были в нем, свободно распространяясь волнами с резкими отливами и приливами, заставляли то метаться из комнаты во двор и обратно, то падать на кровать в трепетном изнеможении. Ему казалось, что нужно непременно нынче какое-то действие или, наоборот, не нужно. Что поворот в его судьбе уже произошел, и теперь обозначилась новая точка отсчета — идти или не идти дальше.
Разумное начало ничего не могло ему подсказать, ибо предательски ретировалось бог знает куда и не отвечало на тоскующие призывы своего хозяина. Но может, именно в разумном начале сейчас не было особенной нужды. Город Дорог приоткрыл нынче инженеру если не все, то многие свои тайны, однако ни намеком не указал, что делать с ними, и надо ли вообще делать хоть что-то.
Ничего изменить нельзя. Это говорил ему многострадальный Большой Крыс. Можно взять, да и поменять все. К такому ответу подталкивал его отставной барабанщик Доктор. Как бы ни хотелось инженеру с благоразумным умыслом позабыть вторую половину возникшего противоречия, но выбор ему предстояло совершить в любом случае. Ибо на сей раз и бездействие тоже заключало в себе определенного рода поступок, а не простого рода отступление. Еще вчера воочию довелось ему узреть худшее из человеческих безумий, и велико было испытанное потрясение, но оно прошло, хотя часть его и претерпела метаморфозу, пробудив в Яромире ту самую великую чесотку и беспокойство, унять которые можно лишь конкретным свершением, если не хватает сил перетерпеть. Вдобавок окаянный самодеятельный спектакль подбавил в клубок сомнений изрядно ядовитых змеенышей. Ладно ли выйдет, коли и он на деле уподобится коварному царю Адмету, убоявшись сойти туда, куда манил его отнюдь не долг или земная выгода, но единственно свобода той самой воли, которая сводит на «нет» козни чугунолобого рока и поворачивает поток вселенских событий из привычного русла в иную сторону. Хорошо или плохо, подобным вопросом Яромир не задавался. Ибо после разговора с почтмейстером Митей жил одним лишь чувством, представлявшим собой одновременно сверх— и предзнание: «Прежде чем посадить на трон нового Бога, ангелы Его должны восстать!» И никак иначе. Это все еще относилось к прошлому вопросу о счастье. Если оно в том, чтобы течение времени сводилось к единой равномерности, неуклонению с проложенного иными, высшими силами, пути, к бытию с максимально возможным самосохранением, с бегством от нецелесообразности любой ценой, то что же. Тогда, при всех имеющихся в наличии человеческих пороках, нынешний гомо сапиенс существует мудро, ибо вопиющая серость сделалась его самоцелью, а человечество в общем стоит на верной стезе превращения себя в огромную гладильную машину, чем дальше, тем более выносящую полезные уроки гуманного усредненного существования. Ради чего? Спрашивать бессмысленно, потому что ответ заключается в самом вопросе.
Ради самого усредненного существования с минимально неубывающей энтропией. Конечно, для множества бедолаг — это предел мечтаний, грядущее избавление от выпавших по лотерейному билету страданий, где пункт назначения лишь гарантированная сытость. И никто из них не пожелает спросить, а что они будут делать со всем этим благоденствием? Не пойдут ли безумной войной друг на дружку просто от скуки, когда это усредненное существование затопит их сердца и мозги почище фашистской отравы, и выблевать его наружу возможно станет лишь вместе с еще большей кровью. Вдруг путь из лабиринта лежит как раз в долинах против ветра, без защиты и без гарантий исхода, когда любой конец будет встречен с радостным ожиданием, даже и смерть, потому что это собственный выбор, оплаченный из собственного же кармана, и значит, единственно твой. Подобное счастье опасно и горько на вкус, но как раз оно-то и не несет в себе отравы, оттого, что исходит от самого человека, а не от посторонних небес.
Риск выходил благородным делом. Примирить Бога и Человека еще на земле, не дожидаясь прихода Царствия Небесного. Порыв Яромира был бы и прекрасен, если бы только инженер, именно в виду дезертирства разумного начала, не упускал от себя главное. Бог и Человек никогда и не состояли в ссоре, даже во время яблочного инцидента в первозданном раю, как не могли войти в эффект противоположности Творец и его создание, оттого, что второе всегда является своего рода продолжением первого, пусть и малосовершенным в своем подобии. И что идти наперекор установлению свыше — всегда действовать вопреки естественной природе. А это во все времена наказуемо. Но решение Яромиром было принято, хотя для осознанного действия ему все же требовался и некоторый толчок. Ведь далеко недостаточно изготовить даже и самый совершенный механизм. Он будет мертв до той поры, пока не сыщется к нему побудительная причина, которая запустит все его шестеренки и коленчатые валы и вдохнет жизнь в то, что до этого было лишь грудой хорошо выверенного, геометрически слаженного металла.