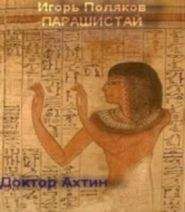Единственное, чего она хотела, — забраться с головой под одеяло. Закрыть глаза. Перестать думать, видеть, слышать и говорить.
— Кажется, что совсем недавно всё только начиналось, а вот уже и финишная прямая, еще пару месяцев, и надо будет выбирать родильный дом. Давайте, Мария Давидовна, вставайте на весы. Сейчас я посмотрю на вас, и потом займемся оформлением документов. Больничный лист, родовой сертификат, справка о ранней явке, — всё, как положено.
Доктор беспрерывно говорила и писала в карте, почти не глядя на пациентку. Встав на весы, Мария Давидовна дождалась звукового сигнала и сказала равнодушным голосом:
— Шестьдесят восемь килограмм, триста грамм.
— Замечательно, полтора килограмма за три недели.
После измерения артериального давления, Светлана Геннадьевна показала рукой на кушетку — ложитесь, посмотрю на живот.
Нащупав предлежащую часть плода, доктор, наконец-то посмотрела на пациентку и с улыбкой сообщила:
— Предлежит головка ребенка. Отлично.
Она увидела грустно-отстраненное выражение лица беременной женщины, и, нахмурившись, спросила:
— Мария Давидовна, в чем дело? Вас что-то беспокоит? Где-то болит?
— Нет.
— Дома проблемы? Или на работе? Так с сегодняшнего дня вам не надо на работу ходить.
— Нет, на работе проблем нет.
— Значит, дома?
— Если это можно так назвать, — вздохнув, сказала Мария Давидовна, вставая с кушетки.
— Я могу чем-то помочь?
— Нет.
Сев на свой стул, Мария Давидовна посмотрела на доктора и, заметив, что та с ожиданием смотрит на неё, показала рукой на документы:
— Давайте, Светлана Геннадьевна, дело будем делать.
Поняв, что пациентка не намерена изливать душу, Светлана Геннадьевна пожала плечами и села за стол.
— Ладно. Будем работать.
Мария Давидовна, легкими движениями рук поглаживая живот, смотрела прямо перед собой, погрузившись в свои воспоминания. Она не слушала то, что говорила врач, которая хотела отвлечь её пустым разговором. Она не замечала яркого зимнего солнца, хоть и не греющего, но дающего надежду на скорый приход весны. Она не прислушивалась к шевелениям ребенка, который в последнее время практически всё время давал о себе знать.
Она раз за разом прокручивала в памяти их последнюю встречу, — глаза Ахтина, его губы и слова. Она поверила им, приняв разумом и сердцем слова любви. И она сразу стала сомневаться, потому что видела в глазах Ахтина бездну.
Он говорил, слушал и смотрел на неё, и в тот же момент, он отсутствовал рядом. Это было похоже на то, как человек с разрушенным сознанием пытается скрыть свою болезнь. Она же видела, слышала и созерцала любимого человека, даже не пытаясь услышать голос разума. И только когда Ахтин ушел, она смогла критически мыслить. Сомнения вернулись, но — она так хотела любить и быть любимой, что всего лишь увидев карандашный рисунок, приняла за истину свои умозаключения.
Ахтин любит.
А, значит, он говорил правду.
И этого вполне достаточно. Большего не нужно, — она умеет терпеливо ждать. И она будет верить и любить.
Прошло время, эмоции сгладились, воспоминания помутнели. Иррациональное знание, пришедшее во сне, заставило её поверить в худшее, что может произойти. Сейчас ей кажется, что всё закончилось, и счастья уже никогда не будет.
Воспоминания никогда не заменят реального человека, его добрые глаза и теплые руки, ласковые слова и спокойное участие.
Ахтина нет. И с этим надо смириться, хотя даже мысль об этом вызывает желание выть. Слез уже нет, так же, как нет других эмоций.
Мария Давидовна механически гладила живот, находясь далеко от врачебного кабинета, пребывая в глубине своего сознания и перебирая воспоминания, которые уже не казались настолько убедительными и яркими, чтобы без сомнения принимать их.
Глава шестая
Принимая бездну
1.
Я чувствую на лице тепло солнечных лучей. Открыв глаза, вижу неровное отверстие, в который заглядывает утреннее солнце. Оно обжигает сетчатку ярким светом, и я инстинктивно закрываю глаза.
Разочарованно вздыхаю. Я нахожусь в пустом разрушенном здании, которое, возможно, когда-то было церковью. Крыша над головой отсутствует, выщербленные краснокирпичные стены зияют пустыми оконными проемами, на земле громоздятся кучи мусора и гнилого дерева. И только по единственной оставшейся блеклой фреске на стене можно предположить, что здесь храм веры. Пристально вглядывающийся и благословляющий Святой, который ищет в глазах Паствы признаки непоколебимой Веры, утраченной в веках.
Я задумчиво смотрю на изображение.
Если это сон, то почему настолько яркий и подробный? Зачем столько деталей и нюансов? Для чего всё это? И то, что я увидел в глазах Распятого На Кресте, имеет смысл или нет?
Если это не сон, то почему я, а не кто-либо другой? И если у меня действительно есть дар божий, то могу ли я отказаться от него?
— Руах элохим.
Мой голос в утренней тишине звучит неестественно гулко.
— Что ж, будем жить дальше, — мысленно говорю я сам себе и делаю первую попытку встать. У меня получается. Я делаю шаг к тому месту, где был иконостас, куда я подтащил то ли кафедру для чтения проповедей, то ли лестницу, ведущую на небеса.
Приближаюсь к тому месту, где должно быть Распятие.
Ничего нет.
Всё привиделось.
Или слишком яркий сон. Или игры моего сознания.
И тут я вижу лежащие на земле предметы.
Ржавые металлические гвозди в количестве четырех штук.
Нагнувшись, я подбираю ближайший гвоздь и сразу чувствую тепло, исходящее от металлического предмета.
Ржавчина, как кровь, что навсегда пропитала железо.
Ребристые неровные края гвоздя, выкованного в стародавние времена неведомым кузнецом.
Отброшенные временем артефакты, говорящие человеку о будущих страданиях, миновать которые невозможно.
Я грустно улыбаюсь.
Это не сон. Эти гвозди извлечены из тела Спасителя.
Знание, полученное от человека, страдающего на кресте, имеет сакральный смысл. Для него, для меня, для теней, сбившихся в стадо, и для будущего всего мира.
Все, что я увидел в глазах Висящего на Кресте, произойдет.
Мне кажется, что я улыбаюсь, но скорее всего у меня на лице гримаса.
Потому что мне больно. Сильная боль от того, что я раздвигаю губы, словно кожа на лице разрывается. Ноги подламываются, и я валюсь на землю, не в силах удержать своё тело в вертикальном положении. Руки ватные, и не слушаются меня, поэтому я не могу смягчить падение, выставив их перед собой.
— Не шевелись.