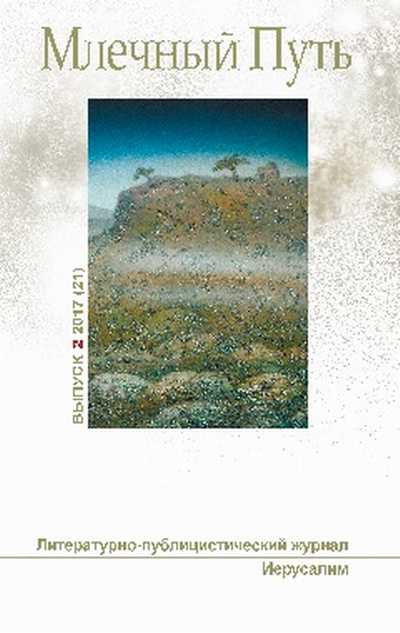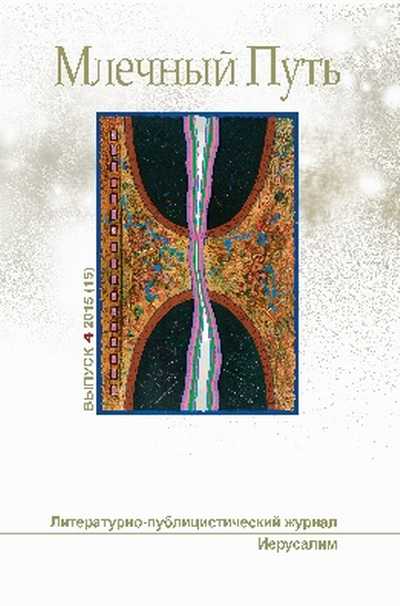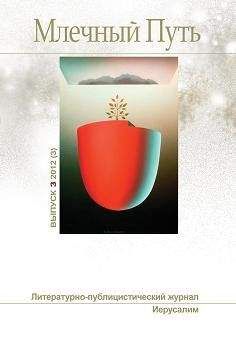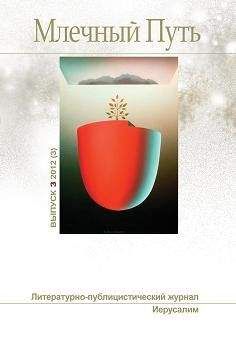«прошлое». При этом каждое событие на одной оси имеет аналог на другой, оно как бы раздваивается, оно движет действие, т. е. включено в цепь предшествовавших событий, в «преступление». Сама же развязка (та «лекция», которую произносит следователь перед разинувшими рот слушателями) – это та точка, в которой обе оси встречаются вновь, образуя окружность. Слияние будущего с прошлым исчерпывает происшествие и демонстрирует его полную вневременность. Это слияние имеет свое внешнее выражение: происходит слияние, отождествление следователя и преступника (в сущности, следователь все время своего действия стремится, как к пределу, к подстановке себя на место преступника, т. е. к отождествлению).
В этом смысле Ваше «Возвращение» тоже есть детектив с реконструкцией прошлого. Брегг развивается в направлении самоотождествления с прошлым, воплощенным в людях, проживших это время на Земле (для него это женщины, старик). Блестящая реализация самоотождествления – беседа в парке; она исчерпывает структурное противоречие, но не решает личной судьбы Брегга; понадобилось еще множество страниц, чтобы Брегг небесный слился с Бреггом земным, восстановил непрерывность времени. Таким образом, ваш Брегг никак не мог улететь (или во всяком случае кто-то там у Вас не мог улететь, иначе не было бы физического объекта, замыкающего структуру).
Другой вариант детектива: оси, идущие в одном направлении, но с разным масштабом (темпом) времени, – вроде Ахиллеса и черепахи. Это те детективы, в которых к исходному преступлению добавляются новые, необходимые для реконструкции первого. Закулисные события и расследования идут, перекрываясь во времени, т. е. параллельно, но с разной скоростью, приближаясь к общей точке развязки.
Но что сказать о Хаммете {27}, Чандлере, Спилейне? Здесь само действие становится формой расследования, саморазвертывание преступления реализует процесс его разгадки и реконструкции, преступление в своем саморазвитии расследует самое себя. Время реконструкции совпадает с реальным временем как в направлении, так и в темпе. Внешним выражением этого и является, наверно, тот факт, что в таких книгах «следователь», фактически, является если и не самим преступником с самого начала, то необходимым действующим лицом преступления, его компонентой.
Я знаю некоторые исследования по криминалу – английские, чешские, но в них нет теории, это, в основном, исторические и жанровые исследования. Впрочем, знаю я их, главным образом, по названиям и перелистыванию, – когда-то писал для Лит. Энц. статью о детективной литературе (очень плохую).
Меня всегда пугает в моих теоретических рассуждениях какая-то их органическая «яловосчь», изолированность от чего-то общезначимого, что стоит за литературой (как говорит ваш Голем: за языком существует еще ведь и само бытие!). В этом плане меня не устраивает и структурализм. Сейчас он меня интересует потому, что я разочаровался в прежнем своем вульгарном социологизме, как средстве прорыва к реальности, и ищу в структурализме такое орудие. Пока это мне не удается. Все, что я усматриваю в литературе (а усматриваю я еще очень мало и поверхностно), остается внутри литературы. Вроде этих рассуждений о времени.
Я уж не говорю о проблеме художественного качества, затронутой Вами. Как прорваться к ней, – вообще не ясно. Может быть, гармоническая согласованность всех уровней «содержания», самозамыкание структуры и есть один из признаков искусства?
О «Возвращении». Раньше, на уровне вульгарного социологизма эта книга исчерпывалась для меня проблемой «потребительского социализма». Сейчас я вижу в ней более широкую проблему культуры. Я буду говорить вещи, для Вас тривиальные, но мне заметить их мешали шоры социологизма, из-за которых я видел в книгах одно лишь их «социальное содержание», плоскую «привязку к современности». Так вот, наверное, лучше всего воспользоваться для разговора о «Возвращении» примером Конрада Лоренца {28} в его «Кольце царя Соломона»: побежденный волк подставляет яремную вену победителю, но тот – не прокусывает ее. Эволюция вмонтировала в животное группу нейронов, образующих инстинктивный тормоз агрессивности, – как средство самосохранения вида. Для человека эту группу нейронов заменяет искусственная конструкция – культура (здесь самосохранение вида в широком смысле, включая вид, как разумный, т. е. со всеми его «надстройками» – моралью, технологией и т. д. Иными словами, культура есть средство самосохранения самой себя и через это – вида. В терминологии Голема, она является передатчиком, а вид – сигналом, так же как вид, в свою очередь, – передатчик для кода). Бетризация – попытка вернуться к естественно-эволюционной дороге, к инстинктивному торможению агрессивности. Поэтому она является операцией не столько над биологической, сколько над общественной природой человека. Дело не в логических рассуждениях, объясняющих, почему и как боязнь риска приводит к отказу от космических полетов; дело – в общей закономерности: бетризация роет яму под всей прежней культурой. Но культура как система тотальна, она обладает собственной агрессивностью и стремлением к самосохранению. Культура мира «Возвращения» – распадающаяся культура, система в процессе деструктуризации. По существу, распались главные связи – между человеком и культурой: они больше не нужны друг другу, как воздух. Они – не обязательны. Их связь – «розлужнена», лишена творческого элемента, эмоционально нейтральна. Они становятся потребителями по отношению друг к другу. Отсюда – такое непреодолимое ощущение какой-то лени, необязательности всех действий людей Земли, этакой летней жары, расслабленности и бездумья. В культуре возникают многочисленные заброшенные закоулки, тупики, залитые зноем и тишиной безлюдные переулки; вместо стройной, сложной системы возникает путаница старинного азиатского города. Амплитуда перемещений людей в пределах этой путаницы неизбежно сужается, круг деятельности съеживается до крохотных размеров; вслед за общественными распадаются личные связи, ибо люди тоже становятся необязательным элементом друг для друга, и в сущности Ваш герой не имеет никаких шансов. Впрочем, остается еще биологический консерватизм, и хранителем этой традиции является женщина.
Я пишу это и внутренне краснею, представляя себе Ваше недоумение: все это так тривиально и так давно известно… Единственное мое извинение состоит в том, что мне необходимо было «дойти» до этого самому.
Далее возникают трудности: какова связь этого уровня содержания с его структурным уровнем; с двойной хронологией, с «лабиринтом»? Кстати, лабиринтные структуры в Ваших книгах – это еще одна проблема. Над ней еще нужно думать и думать. Сначала я чохом, обобщенно предположил, что они возникают у Вас там, где речь идет о деструктурализации («Крыса в лабиринте», «Дневник», «Эдем»). Потом понял, что это вообще-то разные лабиринты. Об «Эдеме» я уже упоминал вначале; о «Дневнике» скажу лишь, что это – не столько лабиринт материальной, сколько, по-моему, информационной структуры – языка. «Дневник» в этом смысле очень напоминает мне послание в «Голосе бога»: материализованный язык. В его людях и коридорах застыли, овеществленные, правила иной фонетики, грамматики, синтаксис иной культуры, непонятный герою. Вы писали в