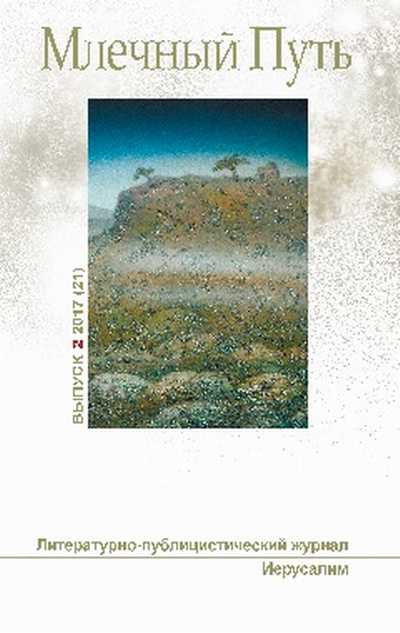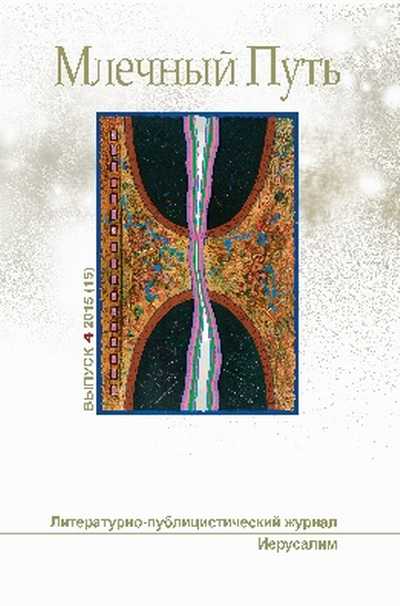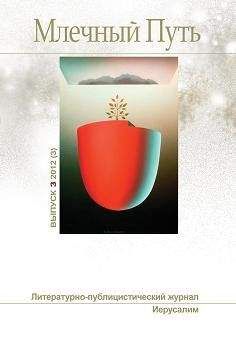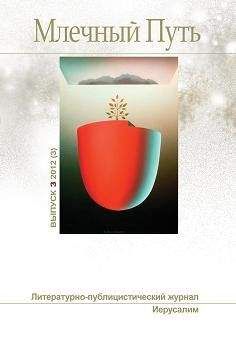«Рассуждении о методе», что в Здании все значимо: организация, система оперирует не только людьми и их поведением, но даже бородавками на лицах. Для меня – это значимость всех элементов некоего языка. Бородавки «что-то» говорят, они «что-то» значат, входят в систему и понятны только в ней. Вырванные из системы, они – как «холодная цепная реакция» в «Голосе», как Жабья Икра, «полученная» в Послании.
Мне очень нравится найденный Вами в «Битистике» образ материализованного Достоевского (тороид с разрывом). Мне представляется, что в Ваших книгах – непрерывная попытка такой же материализации абстрактного: языка, культуры, времени. И как бы уясняя эту развернутую в масштабе произведения метафору, Вы очень часто возвращаетесь к ней внутри вещи. Лабиринт языка получает отражение в главе о библиотеке («Дневник»), лабиринт культуры – в лабиринте космодрома («Возвращение»). Наконец, сами рецензии и предисловия – такая же материализация несуществующих вещей, какой является тороид Достоевского.
Кстати, о предисловиях. Я не буду сейчас писать о «Мнимом величии», это потребовало бы слишком много места. Пожалуй, больше всего меня поразили не сами по себе фантастические идеи, хотя многие из них просто великолепны, не общий замысел «предисловий к несуществующему» (об этом нужно особо говорить), а – масштаб этой круто развертывающейся спирали, начинающейся с «частных» проблем и устремляющейся к самым общим вопросам бытия и познания. Перечитав затем по свежим следам «Идеальный вакуум», я увидел и там такую же спираль. Мне даже показалось, что о ней можно говорить, как об эквиваленте сюжета в обычной литературе: она является организующей осью этих книг как целого. В структурных терминах это, наверное, следует передать как смену «позиции рассказчика»: он начинает изнутри описываемой системы, из произвольной ее точки, и заканчивает выходом наружу, вовне…
Я надеюсь в следующий раз вернуться к этим сборникам на конкретном материале, если Вас это интересует.
За мной еще долг – Ваше письмо о нашем с пани Ариадной романе. С письмом этим получается пока конфуз – ни я, ни пани Ариадна не можем его отыскать. Но я думаю, что оно все-таки у меня и я его найду. Дело в том, что, хотя романом я очень недоволен как романом (он обнаженно функционален), но хроноидеи мне там нравятся, – это была честная попытка сражаться с открытым забралом. Конечно, Вы правы, – я помню главную Вашу мысль, что от парадокса мы не избавились, а лишь отодвинули его, – но там есть о чем поспорить. Пока же я на этом кончаю свое и без того затянувшееся письмо.
Наилучшие мои пожелания Вам и Вашей семье,
Ваш
P.S. Купил еще один экземпляр журнала со статьей Бахтина и посылаю Вам.
…из моего письма Лему:
(о структуре «Возвращения») …Принадлежность героя одновременно к двум мирам, двум временам оказывается подлинным двигателем сюжета; в тот момент, когда он «выбирает», действие естественным образом исчерпывается, хотя в традиционно-сюжетном понимании слово «конец» стоит незаконно. Получается, что структура «Возвращения» есть отражение раздвоенности состояния человека, стоящего перед выбором. В этом смысле она не специфична, ибо принадлежность человека прошлому и будущему (шире – «своему» и «чужому» миру) – это экзистенциальное состояние «хомо сапиенса», стержень его истории, и выбор есть способ, которым человек делает историю. Специфика же «Возвращения», как фантастической вещи, состоит, видимо, в том, что в ней оказывается возможным сделать зримым, «объективировать» весь этот исторический процесс, сделать зримым само время, как действующее лицо человеческой истории.
(о Стругацких) …они всегда были писателями слишком «актуальными», они опережали время ровно на «дистанцию формулировки». Я бы назвал их писателями прикладной мысли; любая интеллектуальная проблема поворачивается перед ними своей социологически-прикладной стороной. Вот почему, как только они натолкнулись на проблему, интеллектуальную по своей органической природе (столкновение культур и мышлений), они спасовали как раз на том месте, где началась внесоциологическая глубина, и откатились к испытанным социологическим схемам. От этого последние вещи производят впечатление вторичных, внутренне незавершенных. Проблема имеет свою логику саморазвертывания, они ее нарушают, прокрустируют, сводят к неадекватным решениям, которые ужасно несерьезны в сравнении с тем, что угадывается в самой проблеме. Над ними довлеет вдолбленный нам принцип примата материального над духовным, социального над общекультурным. И Малыш, и Пришельцы поражают героев своими вещественными, прагматическими возможностями (вдайся С. в восстановление культуры Пришельцев по их «следам» – и исчезла бы божественная фантастичность, необходимое их всемогущество). Всемогущество это вызывает у героев желание – не познать, а овладеть: в надежде рая. Надежды на спасение человечества у С. последовательно («ХВВ», «ОО», «УНС», «ГЛ» и в последних вещах) связываются с фантастически всемогущим вмешательством «извне». Может, тут виновата как раз социологическая узость позиции?
(о «Мнимом величии») …В «Предисловиях», как и раньше, в «Кибериаде» и «Сказках роботов», строится некая новая литература – литература приема, литература, в которой источником движения является локальный прием и разбегающееся от него множество ассоциаций в толще языка; язык, а не внешний сюжет обеспечивает единство и смысл произведения. Сюжет становится как бы внешней формой (маскировкой), а форма (языковая структура) – подлинным содержанием.
Элизабета ЛЕВИН
ПРОКОФЬЕВ – ЗНАМЕНИЕ И ЗВОНАРЬ ЧАСА ФЕНИКСА
Аннотация. Предлагаемая статья – сокращенная журнальная версия первой главы книги о С. С. Прокофьеве «Опера ПРКФВ». На основе Дневников, Автобиографии и писем композитора творчество Прокофьева рассматривается в связи с его эпохой и сопоставляется с поэзией Серебряного века. Ключевая роль Прокофьева в развитии современного оперного жанра и киномузыки освещена в свете хронологической модели больших циклов, названных «часами Феникса».
Ключевые слова: циклические процессы, история музыки, история оперы, рождаемость творческих личностей, Прокофьев, время, часы Феникса.
Прокофьев – знамение времени.
В. Каратыгин
Историю жизни человека можно пересказывать по-разному. Можно свести ее к прочерку между датами его рождения и смерти. Можно подчеркнуть лишь те свойства, которые принесли ему успех или славу, и описать одно-два события, ставшие кульминацией всей жизни. Можно пробежаться по биографии семимильными шагами, а можно проползти по ней со скоростью улитки. Можно свести всю жизнь к потоку бессвязных событий, а можно подметить в ней сеть взаимосвязанных цепочек, в которых каждое звено обозначено хронологическими датами.
Это описание становится более наглядным, если читать его под музыку Сергея Прокофьева к сцене полночи в балете «Золушка». Всего за две минуты музыкального текста можно прочувствовать совмещения многих жизненных ритмов: биений сердец Золушки и Принца, перестука колес кареты и топота лошадей, полуночного боя часов и звона колоколов, возвещающих новый жизненный