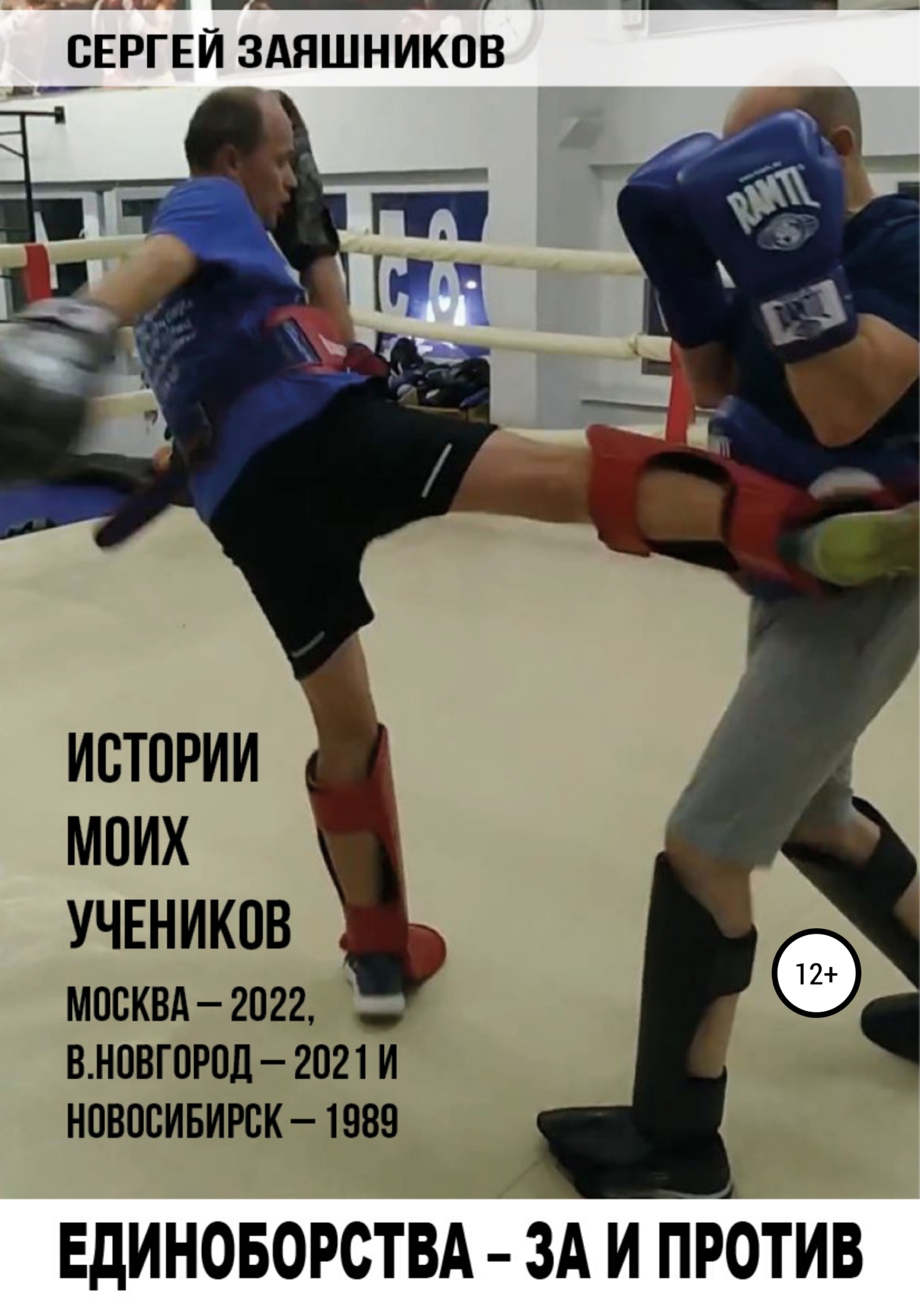себя, что все это спьяну приснилось.
Прошел месяц с половиной, и поняла я, что в тягости. Однако ж все еще в плохое верить не хотела. С мужем-то жила ладно – почему бы и не понести от него человеческим порядком? Но уж когда ты родился, пегий да кривой, то и отговаривать себя нечем стало. Правда вся на твоей пятнистой шкуре выплыла. А череп, который ты нашел, видать, папашки твоего, пегого хряка. Вот он попу и исповедовался, что с чужой женой согрешил.
Послушал я и спрашиваю:
– Что же, раз я так уродился, меня и в рай не примут?
– Этого не знаю, – отвечает матушка. – Меня, видишь, саму пока не принимают. За грехи сперва должна сто лет шкуру стирать, пока все пятна не выведу.
Погоревал я немного, а потом мне вот что интересно стало.
– Брыдлихе-то какой резон? Для чего она колдовство подстроила?
– Тут уже вторая история, – отвечает матушка. – Я когда поняла, какое злодейство свершилось, решила за это с Брыдлихи спросить строго. Только ведьма пропала куда-то и в селе не появлялась. Я уж ее и караулить устала, но только вижу однажды – свет у нее в доме горит. Взяла тогда топор и пошла потолковать на чистую душу.
Старуха, как меня увидала, в ноги повалилась и давай каяться. «Прости, – говорит, – не желала я тебе большого зла, а только и по-другому не могла сделать. Ты – баба молодая, родишь себе еще детей, каких положено, а этот, свинявенький, мне очень нужен. Позволь, я его заберу, а за это деньгами рассчитаюсь или другим, чем прикажешь».
«Для чего же он тебе понадобился?» – спрашиваю. «Для того, чтобы хворь снять. Я-то, видишь, стара, дряхла. Нутро гниет заживо. А если дорастить свинявенького до тринадцати годов да потом употребить его кровь, то недуги отступят».
Умолкла матушка, а я смотрю в ее блеклые зенки и подозреваю: не польстилась ли она сама в то время на мою кровь? Не захотела ли себя от недугов при случае избавить?
– Вышел у нас спор, – продолжает матушка. – Брыдлиха-то, хоть и старая, да увертливая оказалась. Махнула я топором, а она под рукой проскользнула и плеснула чем-то мне в лицо. Так тут жечь-разъедать начало! Через глаза огонь в самую голову заполз, и от этого я скончалась. А Брыдлиха тело мое ночным временем свезла сюда и прикопала. Так все и вышло.
Слушаю я, слушаю, и не знаю, что делать. Мертвым-то верить нельзя, да и живым – тоже. То бабка Брыдлиха на матушку наговаривала, а теперь обратно получается.
– Сомневаешься в моих словах? – спрашивает матушка. – Так их легко проверить. Тринадцать лет тебе исполнится как раз назавтра. Вот если Брыдлиха в это время явится, не раньше и не позже, то знай, что пришла она по твою кровь.
– Если так проверять, пожалуй, она меня и зарежет. Для чего мне такие проверки?
– Не бойся, сынок, – говорит матушка. – Поджидай Брыдлиху снаружи. Как она начнет к тебе подступать, сразу беги сюда – здесь я ее встречу. Теперь ступай, а мне шкуру стирать надо.
Я и пошел. Прибрел в избушку, сел и не знаю, что делать. Мертвые-то кем хочешь могут прикинуться, да и бабка Брыдлиха тоже, должно быть, хитра. Кто из них моей смерти желает – непонятно.
Приложился я к штофу. Нутро подогрелось, а тревога не ушла. И свиная голова с лавки на меня пустыми глазами смотрит. Я говорю ей:
– Чего молчишь-то? Скажи по-отцовски, как тут выворачиваться?
А она не отвечает. Тогда ради озорства плеснул ей немного водки промеж челюстей. Череп враз ожил.
– Чего, – говорит, – ты мне покою не даешь? Зачем подношениями будишь? Мало ли я на болоте муки терпел? Казалось бы, вот исповедовался, и теперь меня следовало бы закопать для упокоения, а тут какие-то проказы!
– Какие уж проказы! – отвечаю, и обсказал свиной голове, в чем дело. – Раз ты мне, выходит, отец, так и научи, как поступить.
– У меня-то, – говорит свиная голова, – сыновей много, и на каждого не наподсказываешься. Все же, как ты дите особенное, тебе сделаю одолжение. Посмотри-ка в моей левой челюсти у коренных зубов. Там, кажется, что-то застряло.
Подошел я к черепу с опаской – ну как опять схватит – и вижу, какая-то штука в его пасти поблескивает. Потихоньку начал ковырять и вытащил пожеванный нательный крест.
– Это твоей мамки крест, – говорит папаша. – я его сжевал, когда на нее забирался. Веревочка-то вкусная была, а железяка промеж зубов пришлась. Бери и носи. Будет тебе защита.
– Как же я стану носить, если некрещеный?
– Да уж хоть как. Бог-то, он, видишь, и мне в милости не отказал, допустил к исповеди. А ведь ты не совсем свинья, а наполовину все же человек.
Выправил я крест, приспособил к нему веревочку и надел на шею.
– А теперь, если не жалко, плесни мне еще водки, – просит свиная голова.
Я и плеснул чуть-чуть. У меня-то у самого очень уж мало оставалось.
На другой день проснулся рано, вышел из избы и давай всего сторожиться. «Хоть бы, – думаю, – не пришла сегодня Брыдлиха, тогда бы и подозревать ее не надо».
Ан, однако ж, она притащилась к вечеру.
– Чего ты снаружи сидишь? Разве не велела тебе не высовываться? – спрашивает Брыдлиха, а сама руку в кармане передника держит.
«Эге! – смекаю. – Видать, у нее там нож!» И отхожу потихоньку.
– Я только воздухом немного подышать вышел, – говорю.
– А в избе разве тебе не воздух? Поди-ка сюда – за ухо оттаскаю!
И тут слышу: шлеп да шлеп по воде. Кажется, матушка знак подает.
Говорю:
– Оттаскай, если надо, только пойдем, сначала я тебе кое-что покажу.
А сам пячусь к ручью.
Брыдлиха за мной потихоньку ковыляет и рассказывает:
– С попом-то я договорилась. Это он на Петров пост сурово к тебе отнесся, а как разговелся – отошел. Вернемся теперь и будем жить, как жили.
А я ей все ж не верю, потому что рука-то у нее спрятана.
– Вот здесь, – говорю, – посмотри кое-что, а потом уж и пойдем.
Брыдлиха шла-шла за мной и к самому ручью приблизилась. Тут неведомо откуда возникла матушка да обернула старухину шею свиной шкурой. Душит Брыдлиху матушка и спрашивает:
– Как тебе теперь, сладко ли?
Бабка хрипит, руками машет. Я смотрю – а ножа-то у нее вроде и нет. Хотя ведьма, она и без ножа зарежет.
Матушка Брыдлиху додавила и ко мне обращается:
– Вот, сыночек, отомстила я за себя. Теперь подойди ко мне для материнского благословения.
Я-то, дурак, и пошел. Разве ж не знал, что мертвые благословлять не